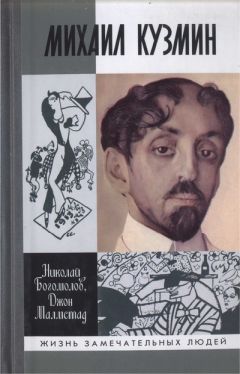— Вы еще нигде не выступали? — опять спросил он, думая об одном.
— Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не певица, и вообще позвольте покуда не говорить мне, кто я. Это совсем не относится к делу. Нужно сказать, что я пришла к вам по такому странному делу, что как только сообщу вам его, вы можете мне сейчас же указать на дверь. Но почему-то мне кажется, что вы этого не сделаете.
— Разумеется, вы не ошиблись: зачем я буду указывать вам на дверь, особенно если вам нужно со мной поговорить? И потом, эти комнаты так редко освещаются такими молодыми лицами! особенно с тех пор, как я один.
— Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Отчего вы не вернете к себе Ольгу Семеновну? Это смешно, конечно; приходит какая-то особа с улицы и говорит вам о семейных, интимных делах. Но я думала, что вы без предрассудков…
— Я — без предрассудков, вы совершенно правильно угадали, т. е. без таких предрассудков, которые вы имеете в виду. А Ольга Семеновна не возвращается ко мне по очень простой причине: потому что она этого не хочет.
— Но вы делали какие-нибудь шаги, вы сами?
— Я не люблю делать бесполезных вещей, из которых заведомо ничего не выйдет.
— Вы позволите мне быть откровенной?
— Мне кажется, вы и так достаточно откровенно говорите.
— Знаете, ваша нерешительность, ваша боязнь сделать бесполезный шаг приносит несчастье четырем или пяти людям.
— Весьма возможно. Никогда нельзя рассчитать последствия самых невинных поступков. Но кто же эти пять человек, если это не секрет?
— Во-первых, конечно, вы и ваша жена; остальные вам неизвестны, но от этого не менее несчастны. — Дама помолчала и потом вдруг спросила с запинкой:
— Вам не кажется, что наше объяснение похоже на сон?
— Нет… отчего же? и потом, я не могу быть судьею. Я так привык жить в книгах, что многие самые обыкновенные вещи кажутся мне прочитанными повестями или сном, если вам угодно.
— Но вы не сердитесь на меня за оригинальность моего визита?
— Нет, хотя и готов найти его оригинальным, если это вам доставит удовольствие.
Гостья вдруг заговорила очень быстро, как будто торопясь высказать свои мысли, которым она не находила подходящих выражений: — Вы не подумайте, Ларион Дмитриевич, что я хочу вас принудить, как-то влиять на вас. У меня не было такой мысли, и потом, вы меня не знаете, едва ли мы встретимся с вами. Мне просто подумалось, что, может быть, вам не приходит в голову, что ваше дело, которое вы справедливо считаете делом личным и вашим частным, оказывает сильное тягостное влияние на людей вам посторонних. А в вашем разрыве с Ольгой Семеновной многое зависит от вашего желания.
Доктор Верейский вдруг будто что-то понял и, заволновавшись, спросил:
— Милое дитя, а вас не Ольга Семеновна послала ко мне? Вы можете мне сказать откровенно.
— Нет, я пришла сама по себе. Ольга Семеновна едва ли меня знает. Может быть, слышала.
— В таком случае вы, наверно, одно из тех трех лиц, которые страдают от моей размолвки с женой?
— Может быть.
— Тогда мой совет: не страдать и не расстраиваться из-за всяких пустяков. Жизнь так коротка! Лучше занимайтесь вашим искусством. Я все думал, глядя на вас, какая роль вам больше всего подходила бы, но профессора знают это лучше меня, конечно.
Неизвестно, горели ли уши у Ольги Семеновны Верейской, когда на другом конце города Валентина уговаривала ее мужа, чтобы тот вернул к себе беглую жену, да если бы они и горели, то Ольга Семеновна этого не почувствовала бы, потому что в это время мирно спала. Не столько спала, сколько лежала в занавешенной спальне, и даже не очень мирно. В ее голове быстро и досадно вертелись обрывки вчерашнего вечера мельницей. Она мечтала несколько о другой жизни, покидая Лариона Дмитриевича, но, конечно, и то, что она имела теперь, было лучше печального затвора в квартире мужа. Иногда ей казались пошлыми и вульгарными эти консерваторы и консерваторки, неудачные учительницы пения и маленькие певицы, подозрительные антрепренеры и второсортные поклонники, старые, хотевшие казаться богатыми, и откровенно ищущие, где бы поживиться, молодые люди, сплетни, свары, интриги, ненависти, фиктивные протекции и экономические кутежи, какое-то душевное разгильдяйство и погоня, даже не безумная, а как-то непрерывно и бессильно возбужденная, за известностью, блестящей жизнью и богатством, богатством! Иногда нападало отчаянье, и все казалось таким смешным и ненужным. Но Ольга Семеновна гнала эти мысли, как ослабляющие ее энергию, которую она считала необходимой для продолжения этой косной и мертвенной суматохи. Ей было даже лень позвонить, и она, не переменяя позы, закричала: «Даша, Даша!» Прислушавшись к звуку своего голоса, она взяла несколько уже вокальных нот и сразу вспомнила, что к ней сегодня должен прийти Владимир Генрихович Тидеман поговорить о деле. Она определенно не знала, о каком деле хочет с ней говорить papa Тидеман, тем более, что этот господин неоднократно оказывался дельцом в самых неожиданных областях. Конечно, что-нибудь насчет ангажемента, потому что не будет же Генрихович предлагать ей биржевые операции или приглашать в революцию!
За Тидеманом она вспомнила о Родионе Павловиче Миусове и о том, что у нее нет денег.
Наскоро умывшись, она подошла к большому зеркалу и стала озабоченно себя рассматривать.
Нет, кажется, еще не очень растолстела!
Вошедший толстый такс остановился перед зеркалом рядом с хозяйкой и несколько раз тявкнул, не то, чтобы пожелать ей доброго утра, не то, чтобы несколько ее подбодрить, но Ольга Семеновна не обратила на это внимания, и озабоченность не сходила с ее лица. Такс удалился, а Верейская принялась за простывший кофей.
Очевидно, не все участники вчерашней вечеринки встали так поздно, потому что не успела Ольга Семеновна дочитать описание сенсационного убийства в «Петербургской газете» и просмотреть объявления «Нового времени», как к ней пришли господин и две дамы, сразу наполнивши комнату театральными восклицаниями и писком. Это и был Тидеман с женою и Маня Шпик, будущая колоратурная звезда. Казалось, она даже в разговоре пользовалась нотами высшего регистра. Ее худощавость составляла постоянный предмет тайной зависти и явных насмешек всех более увесистых певиц.
Ольга Семеновна слегка поморщилась на дам, думая, что они будут мешать деловому разговору, но потом примирилась с неизбежностью и сама отвечала на объятья поцелуями, на восторженность восклицаниями.
— Ты, кажется, Володя, хотел поговорить со мною о деле? — отнеслась она к papa Тидеману, предвосхищая артистическую привычку быть со всеми на ты.
— Да, да, Ольгушка, и я, и Генрихович хотели с тобой поговорить, — заговорила Тидеманша. — У нас предполагается замечательная поездка… в посту… Ты непременно должна участвовать… мы сначала несколько опасались тебе говорить, потому что знали, какая ты серьезная музыкантша, но после того, как мы получили согласие Радиной, мы решили сказать тебе. У нас будет оперетка… постой, не прерывай меня… во-первых, у нас пойдут только старые оперетки, в которых не стыдились выступать лучшие артисты, а потом, Радина как-никак артистка императорских театров! (Действительно, эта маленькая толстушка пела на Мариинской сцене партии горничных в «Пиковой даме» и «Травиате»). Все партии travesti будут отданы тебе. При твоей фигуре, представь, какой это будет восторг! И Маня поедет, потом Анатолий, Коля — вообще, все. Будет очень весело, уверяю тебя. А в смысле материальном, раз во главе стоит Генрихович, я думаю, ты можешь быть уверена. Я же буду вашей общей театральной мамашей. Итак, по рукам, не правда ли? Мы обратились к тебе последней, потому что знали, что ты не ломака, а человек решительный. И вообще, ты, Ольгушка, замечательный товарищ. Это — такая редкость! Возьми хоть ту же Маньку Шпик…
И Тидеманша, оглянувшись на колоратурную диву, которая уже жарила полонез Филины, начала шепотом сообщать о ее коварствах.
Генрихович хранил подозрительное молчание.
— Я не знаю. Конечно, я — человек решительный, но тут есть некоторые обстоятельства…
— Ах, ты думаешь о Миусове! он отлично может взять отпуск и поехать вместе с нами, а потом, если вы расстанетесь на шесть недель, то это только увеличит вашу любовь. Ах, любовь, любовь!..
И она запела под аккомпанимент полонеза:
«Все мы жаждем любви!» — очевидно, вполне войдя в роль опереточной мамаши.
— Но ты и Миусов — это прямо пример! Я всегда говорю Генриховичу: это — Ромео и Джульетта. Я даже пришла к такому выводу, что законное венчание только портит: появляются обуза, привычка, и никакой поэзии.
— Да я бы и не могла выйти замуж, ведь я не разведена.
— Но муж тебе, по крайней мере, выдает деньги?