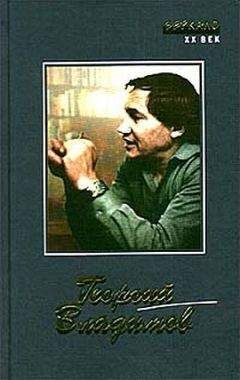За окном грохотали поезда, которые здесь не останавливались, и желтые пятна от их огней прыгали по ее лицу и груди. В эти минуты ему отчего-то становилось нестерпимо жалко ее, и он спросил:
- И не надоело тебе вот так?
-- Надоело, - созналась она честно. - Знаешь, как надоело! Вся жизнь моя, как проезжая дорога.
Он помолчал и сказал неожиданно для себя:
- Ну так уедем отсюда.
- Уедем? - Она приподнялась на локте и склонилась над ним. Волосы ее касались его лица. - Ты сказал "уедем". Это как же - вместе?
- Ну вместе...
- Постой, - сказала она. - А кто ты мне?
Он не ответил. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей и как назвать ее, он твердо решил это к утру. Она удивилась и, жалея его, рассказывала ему все о себе, но обо всех ее похождениях он знал заранее - и настаивал на своем. Сдаваясь, она упрекнула его - еще с удивленной улыбкой, еще не веря тому, что свалилось неожиданно к ней в руки:
-- Увозить ты меня, а куда - и сам не знаешь. Хорошо ли это?
Он ответил:
- Ехать - всегда хорошо.
И на третий день они уехали и долгие годы скитались вместе.
Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у "куркулей", - так он их называл, пока обида не угасла, - хотя какие уж они там были "куркули"! Он мог бы им спасибо теперь сказать, все вышло к лучшему, встретил такую, какая и нужна ему была. Вот только ничего у нее самой не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажить, хотя она умела попасть на хорошее место и неплохо заработать. Сначала, когда еще были молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то еще, этого уже трудно было добиться, потому что вместе с этим пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-то еще. И все равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.
Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что все было хорошо тогда - и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня тот, на маленькой станции, под Камышином, и сегодняшний, когда он поднимался из карьера. Он взял бы все это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу...
Но он не смог ничего взять, потому что услышал далекое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина была легковая и шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков все же завяз, но Хомяков привез врача на самолете, и в нем опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплясали на потолке, и машина остановилась. Из нее вышли двое. Они прошли под самым окном.
Он услышал простуженный голос Хомякова; сквозь приоткрытую форточку долетели обрывки фраз:
- ... о чем я вас прошу... Это замечательный парень... мы завтра о нем в газете... Он верил больше всех... и даже меня, которому... по должности...
- Мне это решительно все равно. - Второй голос был высок и четок. Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня просить не надо.
Хлопнула дверь внизу, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его чавкающие длинные шаги. Потом они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, наверное водителя:
- Ну, как думаешь?..
Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная суета, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если б оставили его в покое.
Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперед приезжего хирурга. Он ступал мягко, должно быть надел поверх ботинок войлочные шлепанцы, и сестра завязывала на нем тесемки халата, который был для него тесен. Он морщился и дергал плечом. Он был высок и толст, под халатом обозначалось мягкое брюхо. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперед, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было еще во всем поселке, и сестра поливала на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.
Вытирая пальцы, он подошел к постели Пронякина и молча уставился на него.
- Ну-с, как мы тут? - спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку. - Вы говорите, пятый и шестой?
- Пятый и шестой, - подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у нее в практике такой тяжелый случай.
- Глаз тоже поврежден? - спросил хирург. Он еще не прикасался к Пронякину.
- Глаз, к счастью, не поврежден, - ответила врачиха.
- Что же ты так, милый? - спросил хирург и, поморщившись, посмотрел на люстру. - Ну-ка, помогите мне.
Втроем они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутыли с теплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось - минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.
Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.
- Что же ты, милый? - опять спросил хирург. Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилали слезы.
- Так вы говорите - пятый и шестой? Правильно, - сказал хирург. Правильно, черт возьми.
И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял ее. Напряжение отразилось на его лице.
- Больно?
- Н-нет.
- А так? - Он ударил кулаком.
- Тоже нет.
Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда ушла в страхе перед этими пальцами.
- А пошевели-ка ногой. Сильнее. Он сделал все, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из нее совсем.
- Ничего, - сказал хирург. - Ничего милый, страшного.
Пронякин улыбнулся ему сквозь слезы. Надежда разрасталась в нем и заполняла вce тело, из которого уходила боль.
Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата развевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.
Они прикрыли ее очень плотно, и тогда хирург спросил, дергая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:
- Сколько ему лет?
- Еще не исполнилось тридцати, - ответила врачиха.
- Н-да. Вряд ли исполнится. Ну что ж, готовьте.
- Будем оперировать? - спросила сестра.
- Нет. Будем снимать мерку для костюма.
Он достал из-под халата сигаретницу из карельской березы и антиникотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пушистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала ее в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.
- Вы думаете, летальный исход? - спросила врачиха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.
Он помолчал и вдруг рассердился:
- Слушайте, какое вам дело до того, что я думаю! Разрежем - посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног, еще час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я еще удивляюсь его сердцу. Это просто буйволово сердце, потому что наверняка же задет блуждающий нерв.
-- Но я правильно сделала, что вызвала вас? - спросила врачиха.
Он передернул нетерпеливо плечами и сбросил пепел мимо пепельницы.
- Вы все правильно сделали, коллега. Вы просто идеально все сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Сущий пустяк, вы не находите?
Он прошелся по комнате, заложив руки за спину; шлепанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.
- Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живет в районе? А районный лучше поселкового? Так?
- Простите, - сказала врачиха.
- Да я нисколько не зол, что вы меня вызвали.
Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж, наверное, он знал свое дело лучше, чем мы. Что там говорить! Бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождем, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. Сам приползет. А если он умрет, так от чего? А? Позвонки! Но вот тут-то как раз и мы ни черта не умеем.
- Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? - сказала сестра.
- Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает... Ну что вы стоите, как истуканы? Я же сказал: "Готовьте!" Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.