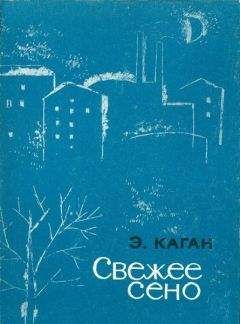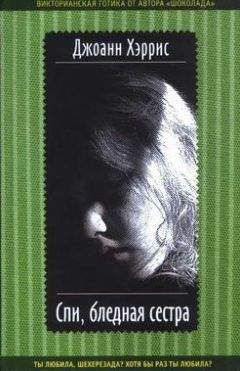А та, которую деревенская бабка назвала «ангелом» — Тася отыскала Михалыча и послала за самогонкой. И под вечер едва ли не пол-деревни сидело у неё за сколоченным Вовкой столом, и Тася пила… пила!
А на следующий день молодуха Оксанка сама притащила ей самогонки. Не за так, конечно, — Тася и ей налила. А чернявый, смурной и дурноватый внук дяди Гриши Илюха подрался с Андреем из крайнего дома, потом плеснул на него керосину и поджег. Андрей живым факелом метнулся к колодцу, к ним уж бежали… Вода на реке успокоилась, и Андрея с ожогами первой степени повезли на лодке в больницу. А Леня Трушкин, бобылем живущий в Быково, взял двустволку и, уперев её в стенку, саданул заряд в живот. Сосед Николай дотащил его до лодки, перевез… Леня жил ещё двое суток.
И чем больше известий об этих бедах доходило до Таси, тем растеряннее она становилась и тем чаще Михалыч гонял в Юршино — добывать самогон. Сенечка топотал возле мамы, с испугом на неё глядя, Коля Хованкин с сыном Лешей возводил печь и возил им на лодке еду. Остальные мужики запили и все работы по дому остановились. По всем комнатам высились груды опилок, обломки досок, стекла… В центральной комнате, где клали печь, разбитый кирпич и глина доставали по щиколотку, и Тася пряталась в угловой комнате от этого хаоса, ела огурцы бабы Гали и пила самогон. И возле неё сидел зверь с разинутой пастью — насмехался над ней. И глаза его уж были не человечьи: два красных угля пылали огнем в темноте. Теперь зверь не оставлял Тасю и днем — он всегда был при ней. И никто его больше не видел. Тася знала теперь, что дом, в котором они поселились, его логово. Тут был вход в другой мир. В доме стало твориться что-то странное: слышались крики, стоны, голоса… На втором этаже кто-то ходил, и доски под ним проседали, скрипели. А в подвале слышались странные звуки — как будто кто-то заступом колотил по обледенелой земле. Тася видела, как сами собой раскрываются двери и… медленно закрываются. Быстрый топот ног… никого. Она думала, что от этого вот-вот помешается и хваталась за бутылку как за спасательный круг. Это было единственное средство, защищавшее её душу от ужаса. Душа цепенела и переставала чувствовать боль. Угасала душа. Спала… И сон её был тяжек и страшен.
А Эля… она уходила из дома. Она шла на кладбище и там кружила между могилами, всматривалась в полустертые надписи на крестах. Она там что-то искала…
Здесь, на этой земле она стала чуть-чуть разговорчивей. Ей нравилось говорить со старушками, нравилась здешняя речь. Баба Шура писклявым тоненьким голоском позвала её в сад. Показала цветник, головой покачала: уж очень жаль ей было пионов.
— Ничего, Элечка, ещё вырастут. А я тебе примулы дам!
Эля улыбнулась, кивнула — она так любила цветы! Она решила разбить цветник на своем оголенном участке. Ей хотелось, чтоб у них тоже был сад и яблони, и кусты… И ещё ей хотелось, чтоб на участке возле дома шумели сосны. И когда Сенечка вырастет, он будет сидеть под ними на скамеечке и читать книжку. Или она будет читать сама… У них будет такая скамейка, у них все будет! Воля к жизни, любовь к ней распрямлялись в душе.
Баба Шура принялась выкапывать кустики темно-бордовых примул с желтенькими сердцевинами. Один откопала, другой, стала выковыривать третий, четвыртый…
— Ой, баба Шура, что вы, больше не надо! — звонко крикнула Эля и сама подивилась звуку своего голоса — она от него почти что отвыкла.
— А, плевать! — махнула рукой баба Шура и принялась копать дальше.
Сердце Элино само расцветало теперь как цветок — жизнь возвращалась к ней. И жизнь, и память! Понемногу стала она вспоминать обо всем, что было в Москве. Эти воспоминания были покуда разрозненны и обрывочны, но они были, были! И не было больше черного глухого провала, бездны, куда ухнула вся её прошлая жизнь. И все происшедшее она вспоминала на удивленье спокойно, без сожаленья и слез.
И знала, что все — и происшедшее с ними, и этот остров — случилось по воле той, что являлась к ней… И быть может… Эля ещё не готова была поверить, но душа ей подсказывала, что пути и дорожки Юршинского острова приведут их к чему-то чудесному, и чуда она ждала.
Приходила на берег к одинокому дубу, сидела, обхвативши колени, и думала, думала… Какая-то странная мысль смутно теплилась в ней. И вспоминала она свои сны о жизни подводной, другой, когда она не была человеком, но могла путешествовать под водой. И тогда она говорила с водой и звала к себе духов воды, стихийных духов, о которых читала когда-то. И вода играла у ног, светилась, ласкалась… И так хотелось нырнуть туда, но она не умела плавать. И в одно прекрасное утро Эля встала, сказала себе: «Плыви!» Скинула сарафанчик и кинулась в воду. Она не боялась, потому что знала — Та, что оберегает её, всегда рядом. И если помнить об этом, то тогда и бояться нечего. Ничего в жизни не стоит бояться, страха нет! Потому что душа — под высшей охраной и высшей защитой.
И она поплыла. Плеща по воде тоненькими руками, резво болтая ногами, поплыла прочь от берега. Она плыла недолго, вернулась. И стала совсем счастливой. И улыбка её осветила и берег, и луг — весь остров, лежавший у ног. Это была её земля — Эля знала теперь, что родом она отсюда. И что здесь им с мамой предстоит раскрыть тайну своего рода. И она вытащит маму, непременно вытащит! И тот волк, который ей снился когда-то, — он теперь снится маме. Нет, не снится — он рядом с ней. И она, Эля, его прогонит. Она должна его отогнать. И тогда чудо свершится.
Она сидела на берегу, потрясенная своим озарением. Сидела и думала. С чего начать? Где конец ниточки, за которую нужно ей потянуть, чтоб распутать ту паутину, в которую они угодили. В которой мама запуталась… Кто из людей поможет? И тогда над водой показался тот человек, которого она спасла в своем сне — вытолкнула на поверхность, — он явился и подсказал ответ.
И до них — до тоненькой девочки с косым лиловеющим шрамом над правым виском и до бесплотного человека, прозрачным облачком вставшего над водой, донесся стройный и строгий хор мужских голосов. И пение это было торжественно и прекрасно.
Между тем, все эти дни, пока Тася пряталась от себя и людей, к ней захаживал добродушный Василий, в усы похохатывал, поглядывая на нее, и возил на своем драндулете всяческое добро: электроплитку, матрас, книжные полки, даже шифоньер приволок. Старый, потертый, рассохшийся, но все-таки шкаф! Теперь хоть вещички по полкам лежали, а не кучей на полу… К матрасу Василий приделал четыре ножки и получилась кровать. Для Таси. Эле с Сеней сердобольная баба Поля выдала две пропыленные раскладушки, извлеченные с чердака.
Деньги у Таси были и она вполне могла обставить дом «по полной программе», но сложность-то в том, что жили они на острове, и доставлять из города вещи на пристань, а потом на пароме везти не было никакой возможности. Ну как, например, втащить по узким мосткам кровать или шкаф? Мебель островитяне обычно доставляли зимой через лед. Лед зимой толстенный стоит, и даже тяжело нагруженный грузовик выдерживает. Вот и решили, что до зимы и так проживут, с тем, что Бог пошлет, а уж зимой всем необходимым из мебели обзаведутся…
Все это обсуждалось с Василем, который этих «воробышков», как он их любовно прозвал, взял под свое крыло. Видно, больно ему было и смотреть-то на них, к деревенской жизни не приспособленных. Тася сначала на Василия косо глядела: что это ещё за покровитель такой выискался? Не надо им никого — сами управятся! Но вскоре она поняла, что самой ей никак жизнь не наладить: к людям здесь нужно особый подход иметь и знать все тонкости местного бытия. На гоноре, да на спеси тут далеко не уедешь! И потихоньку, сквозь пелену тумана, усыплявшую мозг, — пелену алкогольную, самогонную прониклась она к Василию некоторым доверием. Уж больно добрый и понимающий был мужик! И частенько, когда он заходил, она нарезала огурчиков, варила яйца вкрутую, картошку, свеколочку и приглашала к столу. Он выпивал рюмочку, реже две — больше из уваженья к хозяйке, чем в охотку. Василий не пил. И заводился у них разговор о местном житье-бытье. И мало-помалу начинала она постигать эту жизнь, шальную, бедовую, на старушечьих копейках замешанную. Мужики работать никак не хотели, да и заводы многие в Рыбинске встали, работы-то настоящей и не было. Мужики перемогались как могли: колымили, а потом все заработанное спускали в несколько дней до единой копеечки! И многие, те, что жили при стареньких матерях, проедали их пенсии и тащили из дому все, что можно продать, чтоб купить самогон. Кормились тем, что вырастят за лето — картошкой, капустой, огурчиками и грибами. Грибов на острове было пропасть! Их солили, мариновали, закатывали — тем и жили. И трудились на огородах все те же бабы, мужики в море ходили, брали рыбу и тоже солили, коптили, вялили. Рыбинское море глубокое, и шторма в нем — не приведи Господь! Волна такая идет, какой на Черном море и отродясь не видали. Часто тонули рыбаки, и местное кладбище полнилось год от года могилами совсем молодых, тридцатилетних, сорокалетних. Но чаще всего тонули, когда пьяные в дым шли в большую волну на лодке за водкой на другой берег, если у самогонщика Николая зелье заканчивалось…