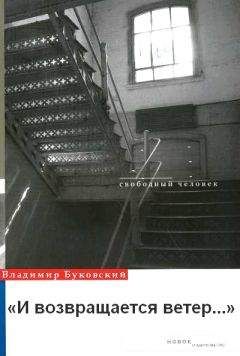Получалось какое-то раздвоение: с одной стороны, как и весь класс, мы дразнили учителей и старались на уроке сделать им шкоду, с другой стороны, на сборах мы должны были осуждать тех, кто это делал, должны были доносить на них публично. Некоторые из нас таким образом становились просто ябедниками и возбуждали всеобщую ненависть. Большинство же лгали и лицемерили, притворялись, что ничего не знают и не видят. Все мы, однако, должны были осуждать нарушителей.
Для меня все это стало особенно очевидно, потому что - как лучшего ученика - меня назначили пионерским председателем в нашем классе, Я должен был вести эти чертовы сборы, следить за тем, чтобы все остальные пионеры выполняли свои поручения, участвовать в заседаниях пионерского руководства всей школы и тому подобное. Непосредственно мне говорили учителя, о ком я должен поставить вопрос на сборе, кого предложить исключить из пионеров или еще как наказать. Я же должен был участвовать в персональной проработке отстающих и нарушителей.
Однажды наша учительница очередной раз позвала меня на такую проработку. Как обычно, мы втроем уединились на переменке, и я должен был в присутствии учительницы отчитывать своего провинившегося одноклассника. Я начал обычные в таких случаях уже надоевшие мне формальные уговоры, говорил, что он позорит всех нас, что он должен исправиться, чтобы помочь этим всей стране строить коммунизм, как вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль: фамилия этого парня была Ульянов, как и Ленина, и я начал говорить ему, что он позорит фамилию вождя, что с такой фамилией он обязан учиться, как учился Ленин, да еще добавил что-то о том, как бы, наверное, расстроился Ленин, если бы узнал о его поведении. Говорил я, видимо, очень красноречиво, убедительно и даже обидно, потому что вдруг он покраснел, сморщился и заплакал.
- Сволочь ты! - сказал он. - Гад! - Встал и ушел вон.
Учительница была в восторге от такого эффекта, хвалила меня, а я вдруг почувствовал себя действительно гадом и сволочью. Я вовсе не чувствовал, что парень кого-то позорит, и никакого зла на него не имел. Я просто привык формально произносить слова, которые от меня требовались, и все, кому я их до сих пор говорил, понимали, что я говорю неискренне, только чтоб от меня отвязались. Никто на меня не обижался, и со всеми я был в приятельских отношениях.
Наоборот, ко мне относились с уважением, потому что я никого не выдавал, а всегда делал вид, что ничего не заметил. И меня тоже никто не выдавал. Тут же я сделал ему по-настоящему больно, и это меня поразило.
Я вдруг понял, что не хочу, не могу больше играть эту дурацкую роль. Зачем? Ради чего? Почему я должен быть орудием в их руках? И я отказался. Меня уговаривали, прорабатывали, осуждали, но я настоял на своем. Я не объяснял причину своего отказа, так как, видимо, не смог бы ее объяснить, но с тех пор даже галстук перестал носить. Так делали многие: носили галстук в кармане и если старшие придирались, то украдкой, в уборной, надевали его. Всегда можно было объяснить, что он испачкался, а родителям некогда постирать.
Было мне тогда лет десять, а в четырнадцать, когда стали всех принимать в комсомол, я в комсомол не вступил. "Ты что, в Бога веришь?" спрашивали меня с любопытством, но я опять ничего объяснять не стал. Долго ко мне приставали, потому что я хорошо учился и всех таких было положено принять в комсомол, но сделать ничего не могли и отстали. "Смотри, говорили многие ребята, - труднее будет в институт поступить!"
Другой, не менее позорный эпизод относился примерно к тому же времени. В 1952 году началось дело врачей-вредителей, а с ними вместе и гонение на евреев. Много было разговоров, что евреев всех вышлют, потому что они враги и хотят убить Сталина. Нарастала ненависть к евреям у людей вокруг. Для нас для всех Сталин был больше чем Богом - он был реальностью, в которой нельзя сомневаться, он думал за нас, он нас спасал, создавал нам счастливое детство. На шкале человеческих ценностей не могло быть большей величины. Все хорошее приписывалось его воле, все, что мы видели плохого, к нему отношения не имело. Поэтому нельзя было придумать большего зверства, чем убить Сталина.
Я тяжело переживал происходящее. Несколько раз мне снился навязчивый сон: будто бы сижу я в огромном зале, полном народу, все аплодируют, кричат, а на трибуне - Сталин. Он только что говорил речь, и вот его прервали аплодисментами. Он берет графин с водой, наливает ее в стакан и хочет выпить. Я один знаю, что вода в графине отравленная, но ничего не могу сделать. Я кричу: "Не пей, не пей!", но мой голос не слышен из-за оваций и криков. Я хочу бежать к трибуне, но народу столько, что пробиться нельзя. Страх, что Сталина убьют, преследовал меня как кошмар, я буквально заболел от этого.
В нашей школе учились всего два еврея. Один, Иосиф, был парень довольно неприятный: какой-то заискивающий, подобострастный и в то же время навязчивый, бесцеремонный. Я не любил его, и мы не дружили. О другом же никто, кроме меня, не знал, что он еврей, фамилия у него была украинская. Он жил рядом со мной, и мы обычно шли в школу вместе. Я видел его отца и мать и знал, что они евреи. Друзьями мы не были, и наше общение ограничивалось дорогой в школу. Теперь меня мучил вопрос: неужели его родители тоже хотят убить Сталина?
Наконец одним утром чаша народного негодования переполнилась, и Иосифа начали избивать. Случилось это на перемене, на школьном дворе. А главное, стали его избивать те самые приятели, с которыми он водился, к которым больше всего лип. Толпа собралась большая, и всякий норовил его пнуть или ударить. Объяснений или призывов никаких не требовалось; все просто понимали, что его можно бить, никто за это не накажет. Несчастный же этот Иосиф вместо того, чтобы уйти после первого избиения, потащился зачем-то в школу, норовил всем своим видом показать, что он хороший, что он со всеми и нисколько не обижается. Поэтому его били и на следующей перемене, и на следующей, а он все так же, с жалкой улыбкой, продолжал липнуть к своим приятелям, и чем больше его били, тем больше он, казалось, приглашал продолжать.
Видно, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что нет у него больше приятелей, что он один против всех. Он хотел со всеми, готов был унижаться и заискивать, терпеть побои и издевательства, только чтобы не остаться одному. Каждый раз после перемены тащился он в класс весь в крови, с распухшими губами и все пытался заговорить с кем-нибудь как ни в чем не бывало. Он верил, что теперь-то уж все кончилось, все прошло и будет по-прежнему. На следующей же перемене начиналось все заново. Учителя только говорили ему сурово: "Пойди в туалет, умойся". И никаких расспросов.
Я не бил его. Он был настолько противен со своей жалкой. заискивающей улыбкой на разбитых губах, что я просто боялся оказаться с ним рядом. И только с тоской ждал: когда же это кончится? Хоть бы уйти догадался или убили бы его, что ли! В то же время я отлично понимал, что этот вот Иосиф никакого отношения к Сталину не имеет - не может, не способен даже думать об убийстве. За что же его тогда бьют и почему никто не прекратит это? Почему я не попытаюсь остановить? Более того, со следующего утра я перестал ходить в школу вместе со своим соседом. Я старался чуть-чуть запоздать и, выходя из дверей, искал глазами его спину. То ли мне было стыдно, то ли противно, не знаю.
Смерть Сталина потрясла нашу жизнь до основания. Занятий в школе практически не было, учителя плакали навзрыд, и все ходили с распухшими глазами. По радио без конца передавали траурные марши, и чувствовалось как-то, что нет больше власти.
Какой-то человек кричал со слезами в голосе из окна глазной больницы: "Сталин - умер, а я - здесь!"
Не слышно было скандалов и драк во дворе, и люди говорили вполне открыто: "За кого теперь пойдут умирать? За Маленкова, что ли? Нет, за Маленкова народ умирать не пойдет!"
Огромные неуправляемые толпы текли по улицам к Колонному залу, где лежал Сталин, и ощущалось что-то жуткое в этой необъятной, молчаливой, угрюмой толпе. Власти не решались ее сдерживать, загородили только рядами автобусов и грузовиков некоторые боковые улицы, и толпа текла нескончаемо. По крышам и чердакам ухитрились мы пробраться аж до "Националя", и оттуда, с крыши, я увидел море голов. Словно волны ходили по этому морю. раскачивалась толпа, напирала, отступала, и вдруг в одном из боковых проулков под натиском ее качнулся и упал автобус, точно слон, улегшийся на бок. Несколько дней продолжалось это шествие, и тысячи людей погибли в давке. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши, бумажки. Даже львам на воротах Музея Революции втолкнул кто-то в пасть по галоше.
В день похорон завыли надрывно фабрики и заводы, засигналили автомобили и паровозы, произошло что-то непоправимое, страшное. Как теперь жить-то будем? Отец родной, на кого ты нас покинул?
Но вот прошли почти два года, а мы жили все так же - во всяком случае, не хуже, и это само по себе было кощунством. Жизнь не остановилась. Взрослые так же ходили на работу, а мы - в школу. Выходили газеты, работало радио, и во дворе все шло по-старому - те же скандалы и драки. Сталина вспоминали все реже и реже, а я недоумевал: ведь умер-то Бог, без которого ничего не должно происходить... В это же время, словно тяжелые тучи, поползли упорные слухи о расстрелах и пытках, о миллионах замученных в лагерях. Освободили врачей-вредителей, расстреляли Берию как врага народа, а слухи все ползли и ползли, словно глухой ропот: