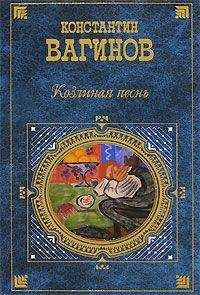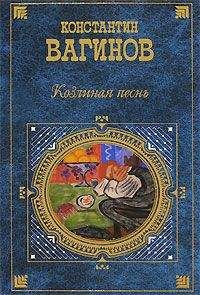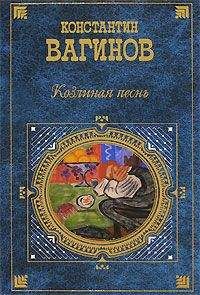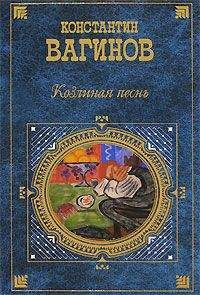По вечерам Психачев подрабатывал в трактирах в качестве графолога. Но сейчас он подошел, движимый состраданием. Но по привычке речевой аппарат добавил:
– Не дадите ли ваш почерк?
Старик отнял от лица руку и посмотрел на Психачева.
Донеслась музыка из Летнего театра. Несколько желудей упало на дорожку. Вершины деревьев, – более темные, чем стволы, освещенные разноцветными электрическими лампочками, – касались друг друга.
Глава двенадцатая. Приведение рукописи в порядок
Кипы мгновенных зарисовок, вырезок, выписок, услышанных в лавках фраз – вроде: «Баранинка как зеркало, снеговая баранинка!», разговоров – «Только и делаю, что чай пью или кофий»; наблюдения: «Пожилой человек, с брюшком, за столом замяукал – он выразил желание попить чайку», жанровые сценки, эскизы различных частей города – все это росло и вступало в связь в комнате Свистонова.
Массу полуживых героев пришлось отбросить, многих героев, как совпадавших в некоей восхищенности друг с другом, пришлось слить в один образ; и других тоже, и третьих тоже, а четвертых оставить как общий фон, как толпу, где мелькают – то голова, то плечо, то рука, то спина.
Свистонов зевнул и отложил самопишущее перо. Слои пыли уже успели улечься на книгах после недавней перестановки, и рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги. Вперебой с часами тикали жучки. Под аккомпанемент жучков Свистонов выпрямился. «Чем бы заняться?» – подумал он – и решил пройтись. Он шел по улице, утомленный работой, с пустым мозгом, с выветрившейся душой.
Роман был окончен. Сначала шли сады, характерные здания, нежные зори, шум и гам улиц. Затем – то здесь, то там стали возникать фамилии; они сходились, пожимали друг другу руки, играли в шахматы или в карты, исчезали и опять появлялись. Уже под фамилиями начинали появляться фигуры. И наконец под каждой фамилией встал человек.
И все было пронизано сладостным, унывным, увлекающим ритмом, как будто автор кого-то увлекал за собой.
Автору не хотелось больше притрагиваться к нему. Но произведение его преследовало. Свистонову начинало казаться, что он находится в своем романе. Вот он встречается с Кукуреку на какой-то странной улице, и Кукуреку ему кричит: «Куку, Свистонов, Куку!»
(Тут с грустью подумал Свистонов о Куку и вспомнил из «Тысячи и одной ночи»:
Ты можешь найти страну для себя другую,
Но душу другую себе найти не можешь). —
«…Вы сами Куку, Свистонов», – и вдруг выскакивает из-за Куку Психачев и начинает в пустынном месте чародействовать. «Вот я сейчас, – говорит он, – покажу, как заключают пакты с дьяволом. Но ради бога не говорите об этом Машеньке. – Что? вы талантливы? Вы гениальны? Вы покажете меня всем во всем моем злом могуществе?» И начинает Психачев произносить слова: «Сарабанда, пуханда, расмеранда»… и видит Свистонов, что он рассказывает Машеньке под зеленой березкой про ее папашу. «Так, так, – говорит он, – Машенька. Ваш папаша совсем не возвышенный человек, а некая презренная и презираемая личность. Он совсем не настоящий мистик, а черт знает что. И не видит он ничего дальше своего носа. А насчет очков, в которые можно видеть невидимый мир, то, знаете, это того-с… таких очков у него никогда не существовало. Так что и потерять он их не мог. Врет он, что ему подарил их один немецкий профессор. Врет он, что он видел в них, как его предки обедают». А Машеньке будто и не четырнадцать лет, а восемнадцать. А вот и Паша, и милиционер, и глухонемая идут к нему навстречу гуськом. Свистонов вышел.
– Тим-там… Эх, шарабан мой, ти-та, та-ти-та, – и разошлись как в море корабли. – Домовые фонари освещали углы строений и ворота, звуки песен и гитар уходили в переулки и снова возвращались на набережную и таяли между звездами и их отражениями.
Днем сверху город производил впечатление игрушечного, деревья казались не выросшими, а расставленными, дома не построенными, а поставленными. Люди и трамваи – заводными.
Ночью курил Свистонов над опрокинувшимися освещенными домами на набережной Фонтанки. Длинная чугунная решетка перил качалась в воде, освещенные невидимой луной облака плыли.
Одиночество и скука изображались на лице Свистонова. Огни в воде, пленявшие его в детстве, сейчас не могли развлечь его.
Он чувствовал, как вокруг него с каждым днем все редеет. Им описанные места превращались для него в пустыри, люди, с которыми он был знаком, теряли для него всякий интерес.
Каждый его герой тянул за собой целые разряды людей, каждое описание становилось как бы идеей целого ряда местностей.
Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая пустота образовывались вокруг него.
Наконец он почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе.
Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их.
Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение.
1928–1929
«История по безделушкам» (фр.).
Собрание разных документов к истории Генриха III, короля Франции и Польши. Кельн, у Пьера Марто, 1662 (фр.).
С честью (фр.).
Критический опыт истории Ливонии… 1717 (фр.).
Джованни Маринелло, «Дамские украшения» (ит.).
«высший сорт» (фр.).
«полнейшее» (фр.).
Воскликнем, господа (фр.).
Интимное в человеке (нем.).
Когда окончился день и настала ночь, волшебник ведет своего товарища некими горами и долами, каких тот никогда не видел, и ему показалось, что они за короткое время проделали большой путь. Потом, зайдя на поле, со всех сторон окруженное горами, он увидел множество собравшихся там мужчин и женщин, и все они, к нему приблизившись… (старофр.) – Пер. М. Мейлаха.
Цену здоровью узнают только тогда, когда оно потеряно (фр.).