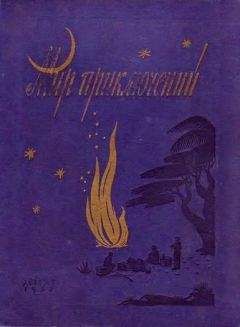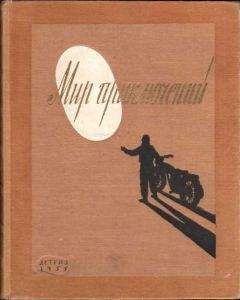«И как они все сильны и здоровы физически, – думал Алексей Александрович, глядя на могучего с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти. – Справедливо сказано, что все в мире есть зло», – подумал он, косясь еще раз на икры камергера.
Неторопливо передвигая ноги, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем, и, глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну.
– А! Алексей Александрович! – сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову. – Я вас еще не поздравил, – сказал он, указывая на его новополученную ленту.
– Благодарю вас, – ответил Алексей Александрович. – Какой нынче прекрасный день, – прибавил он, по своей привычке особенно налегая на слове «прекрасный».
Что они смеялись над ним, он знал это, но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности; он уже привык к этому.
Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь, и зовущие к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувядающие белые зубы, и подошел к ней.
Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как и все ее туалеты в это последнее время. Цель ее туалета была теперь совсем обратная той, которую она преследовала тридцать лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательною. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которое окружало его.
Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он естественно тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету.
– Поздравляю вас, – сказала она ему, указывая глазами на ленту.
Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не призна́ется в этом.
– Что наш ангел? – сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу.
– Не могу сказать, чтоб я был вполне доволен им, – поднимая брови и открывая глаза, сказал Алексей Александрович. – И Ситников недоволен им. (Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи.) Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка, – начал излагать свои мысли Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу – воспитанию сына.
Когда Алексей Александрович с помощью Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своею обязанностью заняться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И прочтя много книг антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и, пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это постоянно занимало его.
– Да, по сердце? Я вижу в нем сердце отца, и с таким сердцем ребенок не может быть дурен, – сказа графиня Лидия Ивановна с восторгом.
– Да, может быть… Что до меня, то я исполняю свой долг, – все, что я могу сделать.
– Вы приедете ко мне, – сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав, – нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я все бы дала, чтоб избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге.
Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мертвая неподвижность, которая выражала совершенную беспомощность в этом деле.
– Я ждал этого, – сказал он.
Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза.
Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами, уютный кабинет графини Лидии Ивановны, самой хозяйки еще не было. Она переодевалась.
На круглом столе была накрыта скатерть и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его.
– Ну вот, теперь мы сядем спокойно, – сказала графиня Лидия Ивановна, с взволнованною улыбкой поспешно пролезая между столом и диваном, – и поговорим за нашим чаем.
После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо.
Прочтя письмо, он долго молчал.
– Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, – сказал он робко, подняв глаза.
– Друг мой! Вы ни в ком не видите зла!
– Я, напротив, вижу, что все есть зло. Но справедливо ли это?..
В лице его была нерешительность и искание совета, поддержки и руководства в деле, для него непонятном.
– Нет, – перебила его графиня Лидия Ивановна. – Есть предел всему. Я понимаю безнравственность, – не совсем искренно сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности, – но я не понимаю жестокости, к кому же? к вам! Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость.
– А кто бросит камень? – сказал Алексей Александрович, очевидно довольный своею ролью. – Я все простил и потому я не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее – любви к сыну…
– Но любовь ли, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете… но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершею. Он молится за нее и просит бога простить ее грехи… И так лучше. А тут что он будет думать?
– Я не думал этого, – сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь.
Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась.
– Если вы спрашиваете моего совета, – сказала она, помолившись и открывая лицо, – то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло все ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка? Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, я, не колеблясь, не советую, и, если вы разрешаете мне, я напишу к ней.
И Алексеи Александрович согласился, и графиня Лидия написала следующее французское письмо:
«Милостивая государыня,
Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу всевышнего о милосердии к вам.
Графиня Лидия».
Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну.
С своей стороны, Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде.
Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которою он так был свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его; но он не был спокоен: он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминание о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности (то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль), как раскаяние, мучало его. Также мучало его воспоминание о письме, которое он написал ей; в особенности его прощение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием.
И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение.
«Но в чем же я виноват?» – говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос – о том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские… эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, не сомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет не для здешней, временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь. Но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучало его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить.