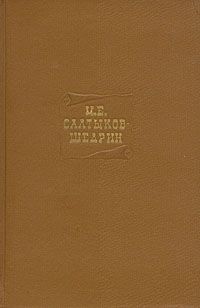Но ни читать, ни писать ни по-каковски, даже по-русски, я не умел.
И вот, вскоре после отъезда старших детей, часов в десять утра, отслужили молебен и приказали мне идти в классную. Там меня ждал наш крепостной живописец Павел, которому и поручили обучить меня азбуке.
Как сейчас вижу я перед собой этого Павла. То был высокий, худой и, кажется, чахоточный человек, с бледным, осунувшимся лицом и светлыми, желтоватыми волосами на голове. Ступал он бережно, говорил чуть слышно, никогда никому не прекословил и отличался чрезвычайною набожностью.
Обучался он живописи в Суздале, потом ходил некоторое время по оброку и работал по монастырям; наконец, матушка рассудила, что в четырех-пяти церквах, которые находились в разных ее имениях, и своей работы достаточно.
Вследствие этого Павел был взят в дом, где постоянно писал образа, а по временам ему поручали писать и домашние портреты, которые он, впрочем, потрафлял очень неудачно. Отец любил его чрезвычайно, частенько захаживал к нему в мастерскую и руководил его работами. Матушка тоже его «не трогала».
Жена его, происхождением из мещанок (решилась закрепоститься ради Павла), была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее «не трогали» и не угнетали работой, но так как она умела печь белый хлеб, то определили пекаршей при доме и просвирней при церкви. Вообще, им жилось легче, чем другим; даже когда месячина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели им особую комнату в нижнем этаже дома.
Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее. В руках у него была азбука и красная «указка». Учил он меня по-старинному: «азами». На первой странице «азы» были напечатаны крупным шрифтом, и каждая буква была снабжена соответствующей картинкой: Аз – арбуз, Буки – барин, Веди – Вавило, и т. д. На следующих страницах буквы были напечатаны все более и более мелким шрифтом; за буквами следовали склады, одногласные, двугласные, трехгласные, потом слова и наконец целые изречения нравоучительного свойства. Этим азбука оканчивалась, а вместе с ней оканчивалась и Павлова «наука».
Азбуку я усвоил быстро; отчетливо произносил склады даже в таком роде, как мря, нря, цря, чря и т. д., а недели через три уже бойко читал нравоучения.
Павел доложил матушке, что я готов, и я в ее присутствии с честью выдержал свой первый экзамен. Матушка осталась довольна, но затем последовал вопрос:
– А дальше как?
– Дальше уж как угодно.
– Да ведь писать, чай, надо?
Оказалось, что Павел хоть и знал гражданскую печать, но писать по-гражданскому не разумел. Он мог писать лишь полууставом, насколько это требовалось для надписей к образам…
Весь этот день я был радостен и горд. Не сидел, по обыкновению, притаившись в углу, а бегал по комнатам и громко выкрикивал: «мря, нря, цря, чря!» За обедом матушка давала мне лакомые куски, отец погладил по голове, а тетеньки-сестрицы, гостившие в то время у нас, подарили целую тарелку с яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно, они делывали это только в дни именин.
Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставит ко мне Павла, даст книгу в руки, и ученье пойдет само собой, – и вдруг, на первом же шагу, расчеты ее рушились…
Тем не менее, как женщина изобретательная, она нашлась и тут.
Вспомнила, что от старших детей остались книжки, тетрадки, а в том числе и прописи, и немедленно перебрала весь учебный хлам. Отыскав прописи, она сама разлиновала тетрадку и, усадив меня за стол в смежной комнате с своей спальней, указала, насколько могла, как следует держать в руках перо.
– Видишь, вот палки… с них и копируй! Сначала по палкам выучись, а потом и дальше пойдешь, – сказала она, уходя.
Я помню, что этот первый опыт писания самоучкой был очень для меня мучителен. Перо вертелось между пальцами, а по временам и вовсе выскользало из них; чернил зачерпывалось больше, чем нужно; не прошло четверти часа, как разлинованная четвертушка уже была усеяна кляксами; даже верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от напряжения. Сверх того, я слышал поблизости шорох, который производила матушка, продолжая рыться в учебных программах, и – при одной мысли, что вот-вот она сейчас нагрянет и увидит мои проказы, у меня душа уходила в пятки.
Целый час я проработал таким образом, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную в лежавшей передо мною прописи; но пальцы от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. Наконец матушка вышла из своего убежища, взглянула на мою работу и, сверх ожидания, не рассердилась, а только сказала:
– Вот так огород нагородил! Ну, ничего, и всегда так начинают. Вот она, палочка-то! кажется, мудрено ли ее черкнуть, а выходит, что привычка да и привычка нужна! Главное, старайся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, да и сам сиди вольнее, не изгибайся. Ну, ничего, ничего, не конфузься! Бог милостив! ступай побегай!
Недели с три каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда наконец не достиг кой-каких результатов. Перо вертелось уже не так сильно; рука почти не ерзала по столу; клякс становилось меньше; ряд палок уже не представлял собою расшатавшейся изгороди, а шел довольно ровно. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок с закругленными концами.
Как и прочих братьев, матушка предположила поместить меня в московский университетский пансион, состоявший из осьми классов и одного приготовительного. Требования для поступавших в приготовительный класс были самые ограниченные. Из закона божия – Ветхий завет до «царей» и знание главнейших молитв; из русского языка – правильно читать и писать элементарные понятия о частях речи; из арифметики – первые четыре правила.
Ни географии, ни истории, ни иностранных языков при испытании не требовалось. В голове матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовительный класс? Для этого следовало только пригласить из соседнего села Рябова священника, который в течение времени, оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет приготовить меня. Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей придется платить за меня в течение девяти лет по шестисот рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составят, в общей сложности, круглую сумму в пять тысяч четыреста рублей, она гневно щелкнула счетами и даже с негодованием отодвинула их от себя.
– Держи карман! – крикнула она, – и без того семь балбесов на шее сидят, каждый год за них с лишком четыре тысячи рубликов вынь да положь, а тут еще осьмой явится!
Руководясь этим соображением, она решилась до времени ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться, в ожидании приезда старшей сестры, приглашением рябовского священника. А там – что будет.
– Вот тебе книжка, – сказала она мне однажды, кладя на стол «Сто двадцать четыре истории из Ветхого завета», – завтра рябовский поп придет, я с ним переговорю. Он с тобой займется, а ты все-таки и сам просматривай книжки, по которым старшие учились. Может быть, и пригодятся.
Рябовский священник приехал. Довольно долго он совещался с матушкой, и результатом этого совещания было следующее: три раза в неделю он будет наезжать к нам (Рябово отстояло от нас в шести верстах) и посвящать мне по два часа. Плата за ученье была условлена в таком размере: деньгами восемь рублей в месяц, да два пуда муки, да в дни уроков обедать за господским столом.
Опять отслужили молебен и принялись уже за настоящую науку.
Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все педагоги того времени. В конце урока он задавал две-три странички из Ветхого завета, два-три параграфа из краткой русской грамматики и, по приезде через день, «спрашивал» заданное. Толковать приходилось только арифметические правила.
Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь, в классные часы, к ученью старших братьев и сестер, а молитвы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. Поэтому двух часов, в продолжение которых, по условию, батюшка должен был «просидеть» со мною, было даже чересчур много, так что последний час обыкновенно посвящался разговорам.
Преимущественно шли расспросы о том, сколько у отца Василия в приходе душ, деревень, как последние называются, сколько он получает за требы, за славленые в Рождество Христово, на святой и в престольные праздники, часто ли служат сорокоусты, как делятся доходы между священником, дьяконом и причетниками, и т. п. Почему все это меня интересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало свое действие общее скопидомческое направление семьи.
Отец Василий был доволен своим приходом: он получал с него до пятисот рублей в год и, кроме того, обработывал свою часть церковной земли. На эти средства в то время можно было прожить хорошо, тем больше, что у него было всего двое детей сыновей, из которых старший уже кончал курс в семинарии.