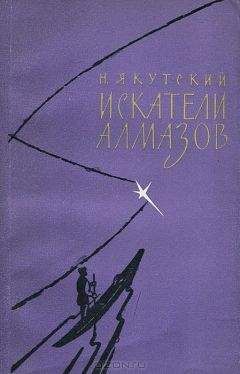Дело было в ноябре, в распутицу. Мы ехали к Якутску; путь предстоял длинный, и мы мечтали о санной дороге. На станциях обнадеживали, что от Качуга по Лене уже ездят на санях, но пока нас немилосердно трясло по замерзшим колеям.
Унтер-офицер Чепурников отдернул фартук. Резкая струя ветра ворвалась к нам, и Пушных зашевелился.
— Ямщик! Что, еще далече до станции?
Ямщик наш был одет в пеструю и мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темною же, как чернила, ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток, что производило самое фантастическое впечатление.
— Верстов еще с десять, — послышалось оттуда.
— Хлопаешь зря: едем-едем — все десять верстов.
Чепурников нервничал и сердился.
Ямщик равнодушно пробурчал что-то, несколько придержал лошадей и набил трубку. Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся от ветра, и скрючившиеся от мороза руки.
— Ну, ты, поезжай, что ли! — сказал Чепурников с холодным отчаянием.
— Сьчас!
Огонек погас, и на облучке опять замелькало только созвездие из беловатых пятен.
Телега качнулась, мы задернули фартук и вновь понеслись вперед среди холода и темноты.
Чепурников нервно ворочался и вздыхал, Пушных сладко всхрапывал. Этот гарнизонный счастливец обладал завидною способностью засыпать мгновенно при всяких обстоятельствах, и это служило главною причиной глубокой ненависти, которую питал к нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищ. Последний пытался доказывать неоднократно, что Пушных не имеет никакого «полного права» своею грузною фигурой занимать большую половину места, назначенного для троих. Пушных при этом жмурился и стыдливо улыбался. Он позволял даже Чепурникову всячески тиранить себя каждый раз при усаживании в повозку. Желчный унтер-офицер порывисто запихивал куда-нибудь его ноги, подбирал и укладывал руки, заталкивал в самый дальний угол его спину, гнул его и выворачивал, точно имел дело с тюфяком, а не с живым человеком.
— Вот… вот!.. так… этак!.. — приговаривал Чепурников, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища. — Р-раздуло вас, прости господи, горой!..
Пушных конфузливо и виновато улыбался.
— Чем же я, Василий Петрович, в эфтим случае… Мы все, то есть, родом экие!.. Ой, Василь Петрович, ты мало-мало полегче пихайся.
Чепурников окидывал взглядом свою упаковку и оставался недоволен.
— Бес-с-совестные! — ворчал он.
Надо заметить, что оба мои спутника принадлежали к разным родам оружия, и Чепурников, как жандарм, считал себя неизмеримо выше Пушных уже тем, что его служба вменяла в обязанность тактичное и вежливое обращение. Поэтому он обращался даже к Пушных не иначе, как во множественном числе, хотя при этом высказывался нередко довольно бесцеремонно: «Бессовестные вы этакие чурбаны!» — говорил он, например.
Но, в сущности, все мы понимали, что совесть тут ни при чем. Особенно же когда, проехав версты полторы. Пушных засыпал, как камень, — тут уж вступали в силу положительно одни физические законы: Пушных, как тело наиболее грузное, опускался на дно повозки, вытесняя нас кверху.
То же случилось и в эту холодную ночь. Чепурников жался к краю повозки, я кое-как сидел в середине, стараясь не задавить Пушных, который все совал под меня голову с беспечностью сонного человека. Я всматривался в темноту: какие-то фантастические чудовища неясно проползали в вышине, навевая невеселые думы.
— Ну и командировка выдалась!.. Не фартит мне, да и только! — сказал Чепурников с глубокою грустью и с очевидною жаждой сочувствия.
Мне было не до сочувствия. Для меня эта «командировка» была еще менее удачной, и мне казалось, что это у меня на душе проплывают одни за другими бесформенные призраки, которые неслись там, в вышине.
— Эх, и что бы месяц раньше! Купил бы я в Качуге шитик, поставил бы парус — и катай себе вниз по Лене до самого Якутска. Ведь это, как вы думаете, экономия?
— Конечно, экономия.
— То-то вот, что экономия… А как по-вашему, сколько?..
— Не знаю…
— А вот погодите, рассчитаем. Три тысячи верст, по четыре с половиной копейки, это выходит по сту по тридцати пяти рублей с лошади. Ежели теперь на четверку да на обратный путь хоть, скажем, на две лошади… Поэтому экономия составляется сот восемь рублей на одних прогонах. Так или нет?
Чепурников рассчитывал с каким-то сладострастным наслаждением и потом сказал со злостью:
— А теперь вот и за одну лошадь, смотрите, останется ли? Вспомните мое слово: станут нам дальше и четвертую лошадь припрягать. Такой подлец народ стал, такой подлец — и сказать вам не могу. Этто чтобы служащему человеку сколько-нибудь уважить — никогда!
Мне от этих расчетов было ни тепло, ни холодно. Пушных напоминал о себе сладким мычаньем сквозь сон.
— Да вот тут еще с этим делись, с чурбаном! — желчно закончил Чепурников. — А спрашивается теперь: за что?
Он смолк. Темная дорожная ночь тянулась без конца, а колокольчик, казалось, бился и стонал на одном месте. Туманы продолжали ползти в вышине какими-то смутными намеками на что-то необыкновенно печальное. Чепурников вздыхал и злился рядом со мной, продолжая раздражать себя расчетами экономии, утерянной только потому, что меня бог не послал ему месяцем ранее.
Но вот повозка быстро забилась на ухабах, колокольчик заболтал что-то несвязное, послышался хриплый лай ленских собак, более похожий на какой-то очень жалобный вой, и в промежутке между фартуком и верхом повозки проплыл яркий огонь фонаря, раскачиваемого ветром на верхушке полосатого столба.
Станция.
Я стал выбираться из повозки, разминая отекшие члены. Чепурников захватил узелок с провизией и стал бесцеремонно тормошить Пушных. После нескольких пинков беспечный унтер-офицер промычал что-то, зевнул протяжно и сладко и стал вываливаться из телеги.
— Полоски (сабли) захватите, — крикнул ему Чепурников на ходу, — да револьверы!
Но Пушных в эту минуту, стоя уже на земле и заложив руки за голову, сладко тянулся, хрустя суставами, и зевал.
Когда он вошел через минуту в теплую станционную комнату, потирая по-детски кулаками заспанные глаза, в руках у него не было ни «полосок», ни револьверов, которые остались в повозке.
II
Я сел к столу и, облокотившись на него, смотрел перед собою, отдаваясь ощущению тепла и отдыха. Глаза мои были открыты, но все предметы принимали для меня какие-то фантастические формы. Стены комнаты раздвигались, и я опять видел себя далеко на дороге, в темной повозке. Только в углу повозки приютилось теперь какое-то странное животное на четырех изогнутых ножках; оно сердито шипело на меня, фыркало и лязгало зубами, сквозь которые пробивалось пламя, пыхая на меня жаром. От этого я начинал ужасно грустить, и тогда глаза мои инстинктивно искали на стене картину, изображавшую возвращение блудного сына. Блудный сын стоит на коленях, а старик отец протягивает над ним благословляющую руку. У старика было доброе лицо, и он так благосклонно глядел, а быть может, еще и до сих пор глядит на проезжающих со стен всех станций, на протяжении всей Лены. Почтенный старец! Он столько раз и так радушно встречал меня своим благословляющим жестом, что я положительно привязался к нему и, входя в любую станцию, утомленный угрюмыми приленскими видами, тотчас же разыскивал его глазами. И в эту минуту я стремился к нему под защиту. Тут ли он? Да, он тут, и, значит, я не на холоду, а в светлой комнате, и сердитое животное, пыхающее огнем, — только железная печурка, жарко натопленная лиственничными дровами. Да, старик тут, и, значит, у меня есть добрый знакомый в этом далеком и неприветливом краю, в этом маленьком домике с полосатыми столбами, приютившемся у подножия угрюмых и мрачных хребтов.
Пушных, положив руки на стол и голову на руки, тихонько всхрапывал, а Чепурников суетился один, то подкладывая дров, то распоряжаясь относительно самовара. Наконец он удалился за перегородку, и через минуту оттуда послышался сначала просто любезный, а потом и дружеский разговор.
— Я очень доволен; я даже так рассуждаю, — говорил писарь, — что вас ко мне сам бог послал, право. Можете верить слову.
Под дальнейший тихий шепот новых приятелей я совсем заснул.
Кто-то тронул меня за руку. Я открыл глаза и не сразу сообразил, в чем дело. Надо мной стоял жандарм Чепурников, и на его обыкновенно подвижном лице теперь лежало какое-то застывшее выражение. Он трогал мою руку, а сам смотрел в окно. Я невольно посмотрел туда же, но ничего особенного не увидел. В стекла глядела ночь, и только пушистые снежинки, налетая из мрака, садились снаружи на черные стекла и тотчас же таяли. Казалось, какие-то белые насекомые с любопытством заглядывают в нашу комнату и через мгновенье бесшумно отлегают в темноту, чтобы сообщить кому-то о том, что они увидели в станционной избушке…