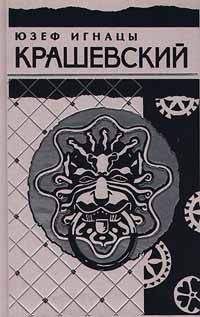просиживали по целым часам. Об остальном ты догадываешься, — я направила прогулку к пасеке; мы встретились; я его пригласила к себе; он приехал и застал пана конюшего. Старик был безжалостен к нему; мне было ужасно жаль Юрия, но он с мужеством перенес обиды. Я ему благодарна: он перенес это для меня.
После его отъезда мы откровенно разговорились с моим добрейшим и честнейшим сторожем. Чуть Юрий переступил порог, конюший бросил на меня умоляющий взгляд и, целуя руки, сказал тихо:
— Ты сердишься на меня?
— Да, если бы я могла на вас сердиться, потому что есть за что.
— Бедное дитя, — продолжал он, — вот как вы отворачиваетесь от горького лекарства! Но, — прибавил он, воодушевляясь, — признайся мне чистосердечно, что, черт возьми, ты любишь его?
Этот вопрос он задал с таким беспокойством, что хотя я должна была бы сознаться, но у меня не хватило духа огорчить его. Как женщина, я отделалась от этого вопроса пожатием плеч.
— Но он ветрогон, повеса, ни к чему негоден! Кутила, пьяница, игрок! — закричал он. — Просто несчастье, где он вмещается! Ему ни на грош нельзя верить!
— Почему нельзя? — спросила я.
— Посмотри только, что он оставил за собою, и будешь иметь понятие, чего можно ожидать от него в будущем: долги, порванные карты, разбитые бутылки и брошенных любовниц.
— Ведь это обыкновенная жизнь нашей бедной молодежи, — возразила я. — Откуда нам взять ангелов? Почему не верить в исправление?
— А, ба, ба, ба! Верить в исправление! Да, да, исправление — великое слово! О, да, он исправится, пока ты ему не наскучишь и пока он не прокутит твоего имения.
— Но отчего пан конюший не хочет верить в исправление?
— Оттого, что не верю. Не лучше ли избрать моему ангелу такого жениха, которому не нужно исправляться, вот, как Ян Граба?
— Прекрасный молодой человек, превосходный, чрезвычайно милый, честный, умнейший; только не для меня!
— Почему? Почему нет? Что это такое не для меня, не для другого! По старопольскому обычаю, сударыня, сосватаем, и квит!
— О, из этого ничего не будет: я выйду за кого захочу, или же вовсе не выйду замуж. Если вы меня любите, то ломайте себе голову, не дремлите, чтобы я не полюбила того, кого вы не хотите, потому что…
— Вот почему, — вскричал он, — я и хотел выслать этого соколика, как будто я вперед предчувствовал! Нельзя ни за минуту ручаться, я этосам знаю! Один взгляд, слово… Ни в чем ручаться нельзя. Ну, судьба сыграла со мною шутку. Ей-Богу, даю слово честного шляхтича, что панна Ирина неравнодушна к нему!
— Может быть, — ответила я, — ведь я тоже женщина: что запрещают, — того я хочу. Зачем пан конюший сделал из него запрещенный плод?
Он взялся за голову.
— Я вижу это! Я вижу! Это просто несчастье! Неравнодушна! Запрещенный плод! Прекрасное яблоко, которое червь проточил насквозь!!.. О, я это предчувствовал, говорил он про себя, этого еще мне не доставало! Бог наказал меня!
Я села молча; он быстро шагал по комнате, думал, ворчал.
— Есть, кажется, характер, но можно ли верить? Он благородной крови, а впрочем, черт его знает! Но все же он ни к чему негоден: нет, не хочу, не хочу! Я буду всю жизнь мучиться, умирать от страха!
— Ведь он сделал смело шаг к исправлению, — подхватила я, позволив ему прежде излить свою желчь, — ведь вы сами признаете в нем благородство?
— Однако я не хочу его, не хочу! — вскрикнул старик. — Всю жизнь бояться за него: к чему мне это!..
— А если я этого непременно желаю?
— Если ты заупрямишься, ей-Богу, я пущу себе пулю в лоб! Я перебила его, закрывая ему рот.
— Не горячитесь, пан конюший. Вместо того, чтобы осуждать его, не убедившись положительно, не лучше ли обратить на него внимание, следить за ним, но не проклинать преждевременно!
— Что толку, если сегодня он играет роль степенного, а завтра запоет другое.
— Позвольте, папаша, — прибавила я, зная, что он любит, когда я называю его этим именем, с детства данным, — позвольте вам напомнить принцип, который я часто слышала от вас: «Что молодое пиво, пока не вышумит, ни к чему не годится; что молодостью каждый должен переболеть, равно как и корью, коклюшем».
— Да, и оспою, после которой остаются знаки; но я предпочитаю привитую.
Он задумался.
— Впрочем, кто знает, — прибавил он, смягчившись, — может быть после брожения он устоится, ведь в нем хорошая кровь Суминов.
Я расхохоталась.
— Чего вы смеетесь? Хорошая кровь! Вы теперь все над этим смеетесь; но я этому верю; много вещей совершается по крови: по роду куры чубатые.
— Слава Богу, если из ничего что-нибудь да выйдет.
— Черт его знает! А если он заикнется на самом предисловии? — прибавил старик, и задумался, прохаживаясь взад и вперед по комнате; потом подошел ко мне и сказал с серьезным видом:
— Знаешь что, моя милая, дай мне, по крайней мере, слово, что ничего не предпримешь, пока я не дам тебе своего согласия.
— Эх, — ответила я, — разве вы меня не знаете, папаша? Разве я такая легкомысленная?
— Это правда, ты не легкомысленна! Ну, ничего с ней не сделаешь! Всегда на своем поставит. Подожди, я за ним буду хорошо следить, присматриваться к нему, но если что-нибудь замечу…
Я поцеловала его в лоб, но вместо благодарности за эту нежность, он вскочил, как угорелый.
— Ей-Богу! — закричал он. — Сто тысяч бочек зайцев! Она уже любит его! Иначе не ласкалась бы!
Смеясь, я убежала в другую комнату, а старик, ворча, вскочил в бричку и уехал.
Вот тебе важная сцена из драмы моей жизни. Я его люблю! Да, люблю его! Отгадал старик, хотя право я сержусь за это на себя и на него.
Но за что я люблю его, зачем? — Сама не знаю. Любовь всегда без логики. Он не красив (но не думай, что и дурен), но к чему все это…
Прошу тебя, Фанни, добрейший друг мой, помолись за меня, чтобы это первое чувство было и последним, чтобы мне не приходилось более бороться с ним… (Конец письма оторван).
Только первый шаг был труден: теперь я уже бываю в Румяной; но помня подозрения, которым я подвергался, зная свое положение, я никогда не решусь сказать ей, что происходит в моем сердце. Я буду любить, мечтать, страдать и молчать; я рад, что могу ее видеть.
С достопамятной встречи с пани Лацкой, Петр избегает меня, я долго не мог его поймать. Были минуты,