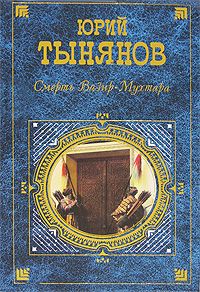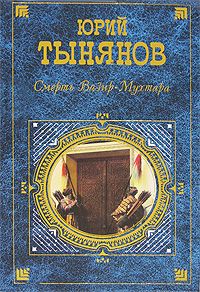– Передайте, Александр Сергеевич, графу Эриванскому, – сказал Сухозанет, дотрагиваясь до борта его фрака, – чтобы он почаще писал старым друзьям, не то я писал, он не отвечает. Я сам воевал, знаю, что некогда, а все пусть напишет хоть два слова.
Сухозанет часто вскакивал с места, все хлопотал – хозяин.
Вокруг Голенищева-Кутузова поднялся хохот, громкий, с переливами, в несколько голосов. Голенищев сам похохатывал.
– Расскажите, расскажите, Павел Васильевич, – всем расскажите, – махал на него рукой Левашов. – Здесь дам нет.
Обед был холостой. Жена Сухозанета была в то время в Москве. Голенищев разводил руками и уклонялся всем корпусом, похохатывал.
– Да я, господа, отчего же. Но только не выдавать. Я здесь ни при чем. Мне это самому рассказывали, я не за свое выдаю.
Он разгладил бобровые баки и метнул глазами направо и налево.
– Александр Сергеевич пусть не взыщет. И чур меня графу не выдавать.
– Рассказывайте, чего уж там, – сказал ему пьяный Чернышев.
– Так вот, говорят о графе Иван Федоровиче, – начал Голенищев и снова метнул глазами. Те, кто знал анекдот, опять захохотали, и Голенищев тоже хохотнул.
– Говорят, – сказал он, успокоившись, – что после взятия Эривани стояли в Ихдыре. Селение такое: Ихдыр. Вот и будто бы, – покосился он на Грибоедова, – граф там тост сказал: за здоровье прекрасных эриванок и ихдырок.
Хохот стал всеобщим – это было средоточие всего сегодняшнего обеда, выше веселье не поднималось.
И все пошли чокаться к Грибоедову, как будто это он сказал остроту, хотя острота была казарменная, и вряд ли ее сказал даже Паскевич.
Все это отлично понимали, но все усердно смеялись, потому что острота означала военную славу. Когда генерал входил в славу, должно было передавать его остроты. Если их не было, их выдумывали или пользовались старыми, и все, зная об этом, принимали, однако, остроты за подлинные, потому что иначе это было бы непризнанием славы. Так бывало с Ермоловым, так теперь было с Паскевичем.
И Грибоедов тоже смеялся с военными людьми, хотя острота ему не понравилась.
А потом все, улыбаясь по привычке, стали друг друга оглядывать.
Ясно обозначилась разница между старым инженером Опперманом и Голенищевым с бобровыми баками. Обнаружилось, что Александр Христофорович Бенкендорф несколько свысока слушает, что ему говорит рябой Сухозанет. Возникло ощущение чина.
Грибоедов увидел перед собою старика с красным лицом и густыми седыми усами, на которого ранее не обращал внимания. Это был генерал Депрерадович.
Генерал смотрел на него уже, видимо, долго, и это стало неприятно Грибоедову. Когда старик заметил, что Грибоедов глядит на него, он равнодушно поднял бокал, слегка кивнул Грибоедову и едва прикоснулся к вину.
Он не улыбался.
За столом замешались, стали вставать, чтобы перейти в залу покурить, и генерал подошел к Грибоедову.
– Алексей Петровича видели в Москве? – спросил он просто.
– Видел, – сказал Грибоедов, смотря на проходящих в залу и показывая этим, что нужно проходить и здесь беседовать неудобно.
Генерал, не обращая внимания, спросил тихо:
– С сыном моим не встречались?
Депрерадович был серб, генерал двенадцатого года, сын его был замешан в бунте, но больше на словах, чем в действиях. Теперь он жил в ссылке, на Кавказе, старику удалось отстоять его.
Грибоедов с ним не встречался.
– Засвидетельствуйте мое почтение его сиятельству.
Генерал прошел в залу. На красном лице было спокойствие, презрения или высокомерия на нем никакого не было.
В зале сидели уже свободно, курили чубуки, и Чернышев с Левашовым расстегнули мундиры.
Левашов, маленький, в выпуклом жилете, с веселым лицом, говорил о хозяине дома. Сухозанет в это время отозвал тестя в угол и разводил руками, он оправдывался в чем-то. Толстый старый князь слушал его с заметным принуждением и поглядывал рассеянно на канапе – там сидели старики: Опперман и Депрерадович.
Левашов говорил, обводя всех значительным взглядом.
– Наш хозяин молодеет, он вспомнил старые привычки. Сегодняшний обед тому доказательством: sans dames[20].
Засмеялись. Сухозанет был выскочка, его двигала по службе жена, княжна Белосельская-Белозерская. В свете говорили о нем и то и се, а главным образом, о странных привычках его молодости.
Но Сухозанет уже верхним чутьем почуял, что смех неспроста, упустил старого князя и присоединился к компании.
Старик присел в кресло и зажевал губами. В углу шел громкий спор между Депрерадовичем и стариком Опперманом. Опперман удивлялся военному счастью Паскевича.
– С шестью тысячами инфантерии, двумя кавалерии и несколькими орудиями разбить всю армию, воля ваша, это хорошее дело.
Депрерадович сказал громко, как говорят глухие, на всю залу:
– Но ведь Мадатов разбил перед тем весь авангард, десять тысяч Аббаса-Мирзы и ничего почти не потерял людьми, при Елисаветполе.
Бенкендорф посмотрел на генерала, сощурясь:
– Генерал Мадатов мало мог повлиять на эту победу.
– Артиллерия, артиллерия решила, – крикнул туда Сухозанет.
В это время князь Белосельский спросил равнодушно Чернышева:
– Уже вступили, граф, в свои владения?
Чернышев побагровел. Он запутал в дело о бунте своего двоюродного брата, сам судил его и упек в каторгу, чтобы завладеть громадным родовым майоратом, но дело как-то запуталось, кузен на каторгу пошел, а майорат все не давался в руки.
На минуту замолчали.
Странные люди окружали Грибоедова, со странными людьми он сегодня обедал и улыбался им.
Суетливый хозяин, Сухозанет, был простой литовец. Постный и рябой вид его напоминал серые интендантские склады, провинциальный плац, ученье. Два с лишним года назад, в день четырнадцатого декабря, он командовал артиллерией на Сенатской площади, и пятнадцатого декабря оказался генерал-адъютантом.
Левашов, Чернышев и Бенкендорф были судьи. Они допрашивали и судили бунтовщиков. Два года назад, в унылом здании Главного Штаба Левашов протягивал допросный лист арестованному коллежскому советнику Грибоедову – для подписи. Коллежский советник Грибоедов, может быть, был членом Общества. Тогда Левашов был бледен, и рот его был брезглив, теперь этот рот был мокрый от вина и улыбался. Они сидели рядом. А напротив был Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, человек простой и крепкий, с такими жесткими густыми баками, словно они были из мехового магазина. Этот человек рассказывал грубые, но веселые анекдоты. Он распоряжался тому два с лишним года, летом, на кронверке Петропавловской крепости повешением пяти человек, троих из которых хорошо знал коллежский советник Грибоедов. Один из его знакомых сорвался тогда с виселицы, разбил себе нос в кровь, и Павел Васильевич крикнул, не потерявшись:
– Вешать снова!
Потому что он был военный, деловой человек, грубый, но прямой, находчивый.
Василий Долгоруков вдруг сказал, взглянув искоса на Грибоедова:
– Но правду говорят, будто характер у графа совсем изменился.
Все поглядели на Грибоедова.
– От величия может голова завертеться, – старик Белосельский тяжело поглядел на Чернышева и Левашова.
– Нет, нет, – любезно успокоил Левашов, – просто я знаю Иван Федоровича, он порывчивый человек, человек, может быть, иногда вспыльчивый, но когда говорят, что он будто трактует все человечество как тварь, я прямо скажу: я не согласен. Не верю.
Теперь они уж поругивали его. Теперь они как бы говорили Грибоедову: ты напиши графу – мы его хвалим и любим, поем аллилуйя, но пускай не возносится, потому что и мы, в случае чего…
Голенищев-Кутузов выступил на защиту.
– Ну, это вздор, – буркнул он, – я по себе знаю: легко ли тут с этим, там с тем управиться. Поневоле печенка разыграется…
Тьфу, Скалозуб, а кто ж тут Молчалин?
Ну что ж, дело ясное, дело простое: он играл Молчалина.
Грибоедов посмотрел на белые руки и красное лицо Голенищева и сказал почтительно и тихо чью-то чужую фразу, им где-то слышанную, сказал точь-в-точь, как слышал:
– Что Иван Федорович от природы порывчив, это верно, и тут ничего не поделаешь. Mais grandi, comme il est, de pouvoir et de re'putation, il est bien loin d'avoir adopte' les vices d'un par-venu[21].
А между тем этого-то слова как раз и не хватало.
Это слово висело в воздухе, оно чуть не сорвалось уже у старого князя; и стали словно виднее баки Голенищева, и нафабренный ус Чернышева, и выпуклый жилет Левашова, и румяные щеки Бенкендорфа.
Была пропасть между молодым человеком в черном фраке и людьми среднего возраста в военных ментиках и сюртуках: это было слово parvenu.
Они выскочки, они выскочили разом и вдруг на сцену историческую, жадно рылись уже два года на памятной площади, чтоб отыскать хоть еще один клок своей шерсти на ней и снова, и снова вписать свое имя в важный день.
На этом они основывали свое значение и беспощадно, наперерыв требовали одобрения.