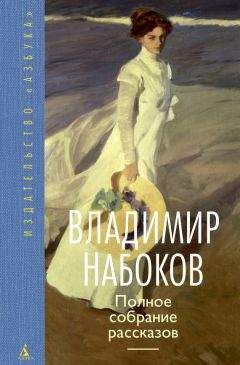– А душновато, – сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь вытирать переднее стекло.
Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный мимеографический план местности и спросил, далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой усадьбы. Просто поразительно, до чего этот человек был похож на коллегу Пнина по Вэйндельскому университету, д-ра Гагена – случайное сходство, безсмысленное, как дурной каламбур.
– Да туда лучше ехать другим путем, – сказал этот фальшивый Гаген. – Грузовики разбили эту дорогу, да и потом она очень петлит. Вы поезжайте прямо. Проедете город. Через пять миль после Онкведо, сразу как повернете на Эттрик, по левой руке, как раз не доезжая моста, возьмите первый поворот налево. Там хорошая утрамбованная дорога.
Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла.
– Сворачивайте на север и держите все время на север на всех перекрестках – в этих лесах попадаются просеки, а вы все держитесь севера и доберетесь до Кука в аккурат за двенадцать минут. Тут не собьешься.
Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровно ничего для него не значат. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться совета первого встречного, сующего нос не в свое дело, вместо того чтобы неукоснительно следовать педантически-точным указаниям, которые послал ему его друг, Александр Петрович Кукольников (в этих местах известный как Аль Кук), приглашая его провести лето в своей большой и гостеприимной усадьбе. Наш незадачливый автомобилист теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе, а так как он не имел довольно опыта в маневрированьи по узким, изрытым колеями дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком; но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души, если не считать муравья, у которого были свои заботы: кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады (своей автострады), с безсмысленным упорством потратив на это часы, он теперь был точно так же встревожен и озадачен, как и тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер унялся. Под бледным небом море древесных верхушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части в остальном неподвижного леса пришли в движение в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего все снова стихло. Прошла еще минута, и вдруг все сошлось в одно время: муравей нашел отвесное бревно, которое вело на крышу башни, и пустился по нему с новым одушевлением; выглянуло солнце; а Пнин, совсем уж было отчаявшийся, оказался на мощеной дороге с поржавевшей, но все еще поблескивавшей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое.
Аль Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем государе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь эсерам (по большей части террористам), а при Ленине был казнен как «империалистический агент» после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья к 1925-му году добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук благодаря своей тихой настойчивости, практической сноровке и некоторому техническому образованию добился высокого и прочного положения в большом химическом предприятии. Добродушный, чрезвычайно сдержанный, коренастый человек, с большим неподвижным лицом, перехваченным посередине аккуратненьким пенснэ, он кем казался, тем и был – администратором, масоном, гольфистом, человеком преуспевающим и осторожным. Говорил он на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшим налетом славянского акцента, и был очаровательно-радушный хозяин, молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом скотча с сельтерской в каждой руке; и только когда его полуночным гостем бывал какой-нибудь его старинный, задушевный русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о свободе и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста.
Он был женат на Сюзанне Маршалл, привлекательной, говорливой блондинке, дочери изобретателя Чарльза Дж. Маршалла, и так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских (как бы отцов и дядьев Кука), в нечетные же у них гостили «американцы» – деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны.
Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами из либеральной интеллигенции, покинувшими Россию около 1920-го года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени, они сидели на лавках и спорили о писателях-эмигрантах – Бунине, Алданове, Сирине; лежали в гамаках, накрывши лицо воскресным номером русской газеты (старый обычай защищаться от мух); попивали чай с вареньем на веранде; гуляли в лесу и гадали, съедобны ли местные поганки.
Самуил Львович Шполянский, кряжистый, величественно-невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика, граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920-го года членами одного из тех героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, прогуливались, бывало, по сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета свободной России (учрежденного ими в Нью-Йорке), с другой, более молодой антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акацией беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории: «Действительность есть протяженность во времени», – гудел один голос (Болотова). «Совсем нет!» – кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же действителен, как ископаемый зуб!»
Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были по сравнению с прочими юноши. Большинству остальных мужчин было за шестьдесят и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например графине Порошиной или Болотовой, было всего лишь под пятьдесят, и благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только хорошо сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков – здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем их родители: время от времени они переходили из своего мира в наш в мерцании каких-то промежуточных измерений; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет и потом снова испарялись; держались всегда безучастно (вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов) и охотнее ели любой товар из онкведской лавки, любую снедь в жестянках, чем превосходные русские кушания, подававшиеся у Кукольниковых за шумными, долгими обедами на закрытой сетками от комаров террасе. Порошин с горечью говорил о своих детях (Игоре и Ольге, студентах второго курса): «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома, за чаем или обедом, и пытаюсь рассказать им что-нибудь особенно интересное и захватывающее – например о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ – кстати, по этому предмету имеется превосходная монография Чистовича тысяча восемьсот восемьдесят третьего года – они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были точно невидимки: им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин поклонник, студент, фамильи которого никто как будто не знал, не приехал в конце недели из Бостона в шикарном автомобиле и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочке Болотовых, смазливой неряхе с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке.