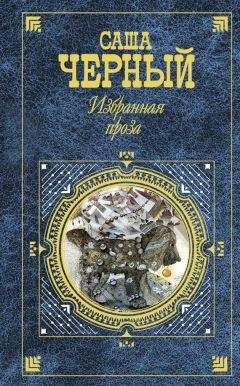– Видите, окно над сараем освещено… Этот старый морж Фалиас сидит под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он дома. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десяток морских ершей – и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено: Фалиас. Вы понимаете? А окна вон той виллы – темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложен моими руками грот: брат был Пятницей, я – Робинзоном… Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня… Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад – я вам рассказывал уже – отец за долги продал наш дом. Продал старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.
Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.
– На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его… Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок… Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, – на две недели. Проверяю – цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал… И вот – видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папироса – лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю как мул… И каждое су откладываю. Год – два – четыре. Наш дом вернется к нам! Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут… Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм – глухой городишко, там еще не все люди стали собаками… Как вы думаете, мадам?
Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.
Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям… Жизнь вся впереди, родина – цветущий сад, большая родина – Франция, и маленькая – Прованс…
Утешала и ухмылялась своим русским затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.
Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки… Потом встал, забросал песком догоравший костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.
Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.
Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги… Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожарища… Что ж. Как могла, она его утешила.
Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий, до самого дна души, отдых. Больше ничего.
На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил заспешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что учительница, наполнив блюдце водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.
Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна услышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.
– Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?
– Не сплю. Что вы делаете?
– Жабе пить несу.
– Хорошо у моря?
– Чудесно.
– Жираф опять жаловался?
– Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.
– Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи…
Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.
– Ай!
– Испугались?
Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.
И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюдцу с водой.
1928Мама не совсем здорова, не выходит.
В субботу – базарный день. Миша, как всегда, собрался с раннего утра. Взял свою маленькую сетку для провизии, натянул до бровей синий колпачок и из передней крикнул отцу:
– Ты что же, папка, копаешься? Зонтика не бери, лягушка на балкончике.
У Миши был свой барометр с живой лягушкой на комоде в спальной. Если лягушка взбиралась в банке по лесенке на балкончик, значит, день будет ясный. А может быть, и наоборот… Кто их разберет, лягушек этих французских?..
Папка долго еще копался: искал ключ от дверей, спички, трубку. Вместо носового платка наволочку в карман запихал, пришлось менять. Мешок для провизии Миша под пишущей машинкой разыскал, шляпу из-за кресла выудил. Что бы папка без Миши делал, даже подумать страшно…
А потом, только за дверную ручку взялись, мама из кухни выскочила:
– Рыбу, пожалуйста, не забудьте… Ты уж, Миша, пожалуйста, проследи, чтобы свежая была. А то прошлый раз…
– Знаю, знаю, мамуся! Ясные глазки, красные жабры. Макро брать, или колэна, или что?
– Да уж не знаю, чижик. Вы с папой там сами присмотрите, что посвежее.
– Идешь, папка?! Прямо терпение с ним лопается, с этим человеком.
Папка рассмеялся, с трудом натянул на правую руку левую перчатку и хлопнул дверью.
Базар длинной полотняной улицей тянулся шагах в двадцати от Сены. В самой гуще базара Миша ничего, кроме медленно плывших перед ним спин, не видел. Да чужие мешки со всех сторон задевали его то за волосы, то за нос. Но зато на перекрестке было просторнее. На панели, у самой мостовой, блестели на солнце солонки, жестяные крышки и соблазнительные копилки в виде румяных яблок и свиных голов. На раскидном столике грудой желтели солнечного цвета лимоны и бананы. Какая-то красная, похожая на тюфяк, баба сердито кричала, предлагая прохожим кудрявую овощь вроде мяты. Распластанные кролики с крохотными почками и печенками так беспомощно лежали на прилавках, раскинув ножки в меховых чулочках. Миша вздохнул…
Долго вздыхать было, однако, некогда. Ишь, отец, хитрый какой, засмотрелся на детские грабли и повозочки, а про рыбу и забыл.
Миша потянул его за рукав и потащил к рыбным столам. Выбирали недолго: с краю лежал симпатичный карп, как раз такой, как надо. Не большой и не маленький, ясные глазки, красные жабры, полненький и совсем не дорогой. Самый подходящий эмигрантский карп.
Уложили его в папин мешок, прикрыли сельдереем и пошли домой. А в маленькой сетке Миша нес то, что полегче и поделикатнее: головку кудрявого салата, три яйца в бумажном мешочке и сюрприз для мамы – пучок лиловых анемонов.
* * *
Вытащили толстяка-карпа на свет Божий из коленкорового мешка, положили на деревянную дощечку.
Миша тут же вертится, на апельсин самый большой нацелился; надо перед обедом выпросить, – сначала на коже китайскую рожу выкроить, а потом сок выжать, с малиновым сиропом взболтать и сладкую бурду через пульверизатор высосать. Любознательный был мальчик.
Покосился Миша на карпа, задумался. Хорошо все-таки быть человеком. В сеть тебя не словят, кожу скрести ножом не будут, на сковородку не положат… О! Что же это такое?!
– Ма-ма! Он зевает!..
– Кто зевает?
– Карп! Ура!.. Живой… Да иди же сюда, иди же! Хвост поднял!
Схватил Миша бесстрашно карпа поперек живота, бросил его в жестяную лохань, встал на табурет, отвернул кран. Хлынула вода, загремела о жесть, пена ключом, ничего не видно. А когда доверху дошла, в лохани прояснело. Смотрит Миша: медленно шевельнулась рыба, дышит, пасть открывает, хвостом туда и сюда. Словно после обморока сил набирает.
Папка, конечно, рядом стоит.
– Ах ты, Карп Иванович! Смотри, Миша, вкруговую поплыл, носом тычет. Как же его теперь, чудака, жарить? Сами в чувство привели, сами и потрошить будем? А? Нехорошо это как-то. Негостеприимно.
– Никто его потрошить и не будет. Мы же не вампиры какие-нибудь! Мамочка, я его у тебя откупаю.
– Как, дружок, откупаешь? Что за глупости?
– Совсем нет. Возьми у меня в копилке двенадцать франков, столько, сколько он стоит, и сделай нам какой-нибудь моментальный обед. Я, мамуся, на все согласен. Пусть хоть молочный суп. Папка тоже. Согласен? Еще бы! Какой тут разговор… А карп пока будет жить…