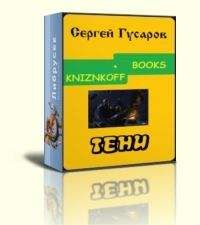И пример показал Борька - вот что меня поразило так, как если бы настоящий старый старичок повалился бы вдруг на пол и стал играть и баловаться по-детски.
До чего же банальная история. Да, да, да... Так оно и есть. Жаль только, что банальные раны болят ничуть не меньше всяких других.
Годы понадобились, чтоб меня усмирить, но я все-таки усмирилась, потому что незаметно стала их любить, если это так называется... Они стали моей жизнью, а куда от себя убежишь? Все равно что стараться не знать того, что уже знаешь. Я вышла в конце концов за них замуж - за всех пятерых. Правда ли было то, что он мне говорил? Правда, конечно, правда. В тот день - правда. И даже целые годы потом, пожалуй, - правда, когда он повторяя мне: ненаглядная.
Вся сила этого слова была в том, что оно все-таки жило во мне, сказанное той ночью, когда не лгут перед смертью, ночью, когда в мечущихся клубах не находящего себе места дыма еще все колебалось, не устоялось война, мир, революция, - все еще было в кипении и ничего не решилось, и мы не знали, что будет с нами завтра утром, и я, дрожа от холода, со сдавленной грудью, ждала, какая судьба мне откроется после того, как ветер разгонит этот дым, ждала, переполненная таким напряжением ожидания, таким страхом и ледяным восторгом, какой, наверное, испытывает росток, готовый прорваться к теплу из мокрой холодной земли, не зная еще, в каком мире очутится и кем он будет в этом мире сам, - эти последние часы у самого порога жизни, которые потом уже никогда не повторятся...
Они и не повторились, но слово все-таки было, и знали его только мы двое.
Какое волшебное оно было когда-то. Потом волшебства в нем осталось чуть-чуть. Бедное, потускневшее, полинявшее и до того уж запоздалое, но все-таки, мне тогда казалось, чуточку волшебное слово.
Я вслушивалась с каким-то горьким состраданием в самое это слово, когда он опять его мне повторял, и все вспоминала, каким прекрасным, молодым, полным силы и сверкающей надежды оно было, когда только родилось в ту дымную, долгую ночь на самом пороге едва забрезжившего неверным светом будущего...
На улице гремели трамваи, надрывались от чириканья, прыгали среди пешеходов захмелевшие от солнца воробьи, порывами налетал весенний ветер, какой-то не городской, а загородный, деревенский, в лужах оттаявшего снега на тротуаре ослепительно вспыхивали иглистые звездочки солнца.
Я шла и думала о море, которого никогда не видела, о том, что на его поверхности, наверное, так же вот вспыхивают - пропадают - вспыхивают звездочки. Конечно, воды там гораздо больше. Но и эти, мои уличные, тоже очень красивы и так же слепят и радуют глаз.
Я шла ровным, размеренным шагом, каким приучилась носить тяжести, чтоб раздувшиеся авоськи, оттянувшие руки, не стукались по ногам краями консервных банок.
Я шла, огибая по тротуару большую шумную площадь, и вдруг, далеко впереди, среди пешеходов увидела Сережу. Он шел мне навстречу, то пропадая среди идущих, то снова показываясь, все ближе ко мне, и я шла все медленнее, не спуская с него глаз. Ни разу я его не встречала за все годы и давно примирилась, совершенно привыкла к мысли, что никогда его и не увижу.
Я даже не знала, что он тоже теперь, как и мы, живет в Москве, мы жили точно в разных мирах или в разном времени - так мне казалось, и вот он шел, огибая площадь, мне навстречу, по тому же тротуару.
Опять он пропал, его загородили чьи-то спины, и вдруг, разом, я увидела его в десяти шагах от себя - это был совершенно чужой человек, незнакомый, непохожий.
Почему вдруг мне Сережа пришел в голову?
Не глядя, я прошла мимо этого человека, опустив голову, щурясь на лужи, и почему-то опять подумала: вот такие же солнечные вспышки слепят глаза, когда смотришь на поверхность какого-нибудь Карибского моря. Которого я никогда не увижу.
Народу на тротуаре было не очень много - был наш час - домашних хозяек, когда все настоящие люди на работе.
Дождавшись сигнала светофора, я перешла на другую сторону улицы одной из четырех, разделявших круг площади на отрезки дуги, и тут чуть не наткнулась на какого-то человека, который мне загородил дорогу. Поневоле я остановилась, недоуменно подняла голову и увидела высокого худого человека в серой шляпе. Он стоял передо мной и смотрел растерянно, будто это я его неожиданно остановила посреди улицы; это был Сережа. Я его и узнала, и не поняла, потому что с ним что-то случилось. Ах, да, пятнадцать лет прошло и, тут же я и себя увидела мгновенно - со стороны, - как я стою перед ним: две набитые, раздувшиеся пузырями авоськи в обеих руках и на мне самой печать десяти тысяч перетасканных мною за эти годы таких же кульков и авосек.
Что-то понеслось, замелькало мимо меня и вдруг успокоилось и прояснилось, точно остановилась пестрая карусель, и я начала понимать: вот стоит передо мной Сережа, смотрит мне в глаза, начиная неуверенно улыбаться знакомой своей, слегка кривой улыбкой. Вычеркнутый из моей жизни, не существующий в ней Сережа, и на лбу, и около глаз, и около уголков рта какие-то тени, складки, вмятины - а их вовсе не было на том лице, которое я знала когда-то, в моей прежней жизни, где осталась моя ранняя молодость, пустынные шаги на безлюдных набережных и это, ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее чувство, что все только-только начинается, все вокруг нас, в городе, во всем мире, и мы сами только начинаемся. И вдруг я и это все позабыла, такая схватила меня за сердце нестерпимая жалость, одна только жалость, - как будто я только вчера видела его полным сил и молодости, и вот с ним случилось какое-то несчастье, и он за одну ночь постарел, заболел и, главное, очень устал.
Выпустив из рук авоськи, я шагнула к нему и, с подступающими слезами, в тревоге, в страхе, схватила его за руки:
- Что с тобой? Тебе очень было плохо?
Он, уклончиво улыбаясь, стал меня успокаивать:
- Нет, нет!.. Ничего... Кажется, ничего... Что ты? Мне ничего.
Две стеклянные банки в авоське разбились и потекли.
Мы стали вытаскивать разбитые стекла из сетки. Зеленый горошек разбежался по тротуару, а маленькие огурцы застревали в ячейках, как зеленые рыбки. Мы сгребли и спихнули все к краю, в обтаявший снежный валик у мостовой.
Он поднял мои авоськи, но я отняла одну, и мы пошли и понесли их рядом, молча. Кто-то стал меня толкать сзади, я обернулась. Маленький мальчик, в толстых байковых шароварах и старом лётном шлеме, протягивал мне подобранный в снегу огурец:
- Вот, на еще!
Он запыхался, догоняя нас, и я сказала ему "спасибо" и взяла грязный огурец. Он великодушно сказал "ничего" и, довольный, ушел.
Не разговаривая, не глядя друг на друга, мы довольно долго шли рядом, как будто у нас не было никакой цели, как только дотащить авоськи. Или, может быть, мы и говорили о чем-то, что не запомнилось, вот помню только, как я спросила:
- Ты никогда не молчал по телефону?
- Как это? - удивился Сережа. - Как это: молчал по телефону?
- Просто так, в голову пришло. У тебя семья?
- Да. Сын, дочь, жена.
- В таком порядке?..
- Я нечаянно так сказал. Пожалуй, да, в таком порядке. Ну, ничего.
Гремели трамваи, автомобили нетерпеливо гудели на перекрестках, мы всё шли рядом, и я помню этот очень ранний весенний городской запах холодной воды, подтекающей из-под снега, тающего на солнце.
- Так как же молчат по телефону? - спросил вдруг Сережа. - Позвонят, держат трубку и ничего не говорят?
- Дышат и молчат, да.
- Ну, я молчал.
- В понедельник?
- Да, и в понедельник. Вообще ты, пожалуй, права, я об этом как-то перестал раздумывать, но живу я, скорей всего, плоховато. Вроде градусника за окном. Смотрю сквозь стекло, как идет жизнь в комнате, а мне не слышно, и тепло не доходит. Я за окном, на морозе, а они сами по себе.
Тут мы оказались уже у самых ворот моего дома. Моего тогдашнего дома...
- Можно я тебе запишу свой служебный телефон? Ну, на всякий случай? спросил Сережа.
- Скажи.
- А ты не забудешь?
- Я не забываю.
- Правда?.. - сказал он и тихо заглянул мне в глаза. - Это ужасно. Вот и я тоже.
Мы разошлись поскорее.
Время коротеньких, краденых встреч. Зазвонивший телефон, точно выстрел над ухом, встряхивает тебя так, что вскакиваешь и с пересохшими губами еле можешь выговорить в трубку что-нибудь связное.
Время второпях назначенного свидания, от приближения которого целую неделю все сильнее замирает сердце, а потом стоишь на условленном углу, с отчаянием чувствуя, как уходит минута за минутой, безвозвратно истекает драгоценное, отпущенное судьбой время. Гаснет радость, потом надежда. Снег сбоку несется по ветру на черную голову Пушкина, который стоит без шляпы, на ветру, время уже ушло, а ты все стоишь, стоишь, и у Пушкина голова уже вся белая, и плечи в снегу... Потом все объясняется, никто не виноват, но этого дня уже не вернуть.
Встреча на набережной, где темно и безлюдно, но ветер не дает остановиться, надо все время идти, идти, держась за руки, мимо рядов освещенных окон, за которыми счастливые люди в безветрии и тепле своих комнат могут сидеть, держась за руки, друг против друга и говорить, говорить, и горячие губы не стынут от ветра после поцелуя, и можно обняться без толстого пальто, и можно вместе пить чай, вспоминать, рассказывать, мечтать, насмотреться в глаза и пожалеть друг друга.