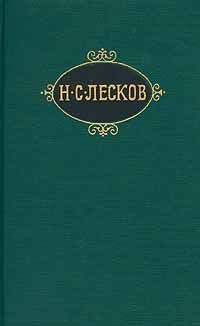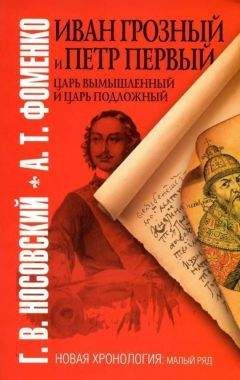Все гости слушали эти рассказы, и словно переживали всё, что излагал пред ними Рогожин, и «страхом огораживались» от ужасавшего их захудания рода, которое, вероятно, и тогда уже предвиделось.
По крайней мере бабушка, по своей безбоязненности смотреть вперед, и тогда уже об этом говорила.
Все это были беседы бесконечные, но не бесплодные, и в них коротались дни, а когда Дон-Кихот вдруг исчезал, эти живые беседы обрывались, и тогда все чувствовали живой недостаток в Рогожине. Возвращался он, и с ним в Протозаново возвращалось веселье. Приезжал ли он избитый и израненный, что с ним случалось нередко, он все равно нимало не изменялся и точно так же читал на память повесть чьего-нибудь славного дворянского рода и пугал других захуданием или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память.
В то время, когда бабушка ожидала к себе петербургского графа Функендорфа, Рогожин находился налицо в Протозанове: он только что возвратился откуда-то после жестокой битвы, в которой потерял глаз.
– Батюшка мой, как тебя обработали! – произнесла, увидав его, бабушка. – Ты ведь теперь кривой останешься?
– Да ничего… один глаз целый остался, – отвечал Рогожин и больше ничего не рассказывал; но люди через Зинку разузнали, что было побоище страшное, что Дон-Кихот где-то далеко «с целым народом дрался».
Вся история, сколько помню, состояла в том, что где-то на дороге у какой-то дамы в карете сломалось дышло; мужики за это деревцо запросили двадцать рублей и без того не выпускали барыню вон из деревни. Дон-Кихот попал на эту историю и сначала держал к мужикам внушительную речь, а потом, видя бессилие слов, вскочил в свой тарантас и закричал:
– Зинобей! Зинка бей! бей! бей! Зинобей!
Зинка подобрал вожжи и в свою очередь завизжал:
– Эх вы, караси! ну-ка-си! помахивай-ка-си!
И одры разлетелись, сделали с горы круг; за ними закурило и замело облако пыли, и в этом облаке, стоя на ногах посреди тарантаса, явился Рогожин в своей куртке, с развевающимся по ветру широким монашеским плащом. Все это как воздушный корабль врезалось – и тут и гик, и свист, и крик «бей», и хлопанье кнута, и, одним словом, истребление народов!
Люди сидевшей в карете дамы, воспользовавшись этою сумятицею, скорее по лошадям, и ускакали, а мужики вдруг сообразили, что Дон-Кихот один, а их много, и приняли его в переделку. Обоих путников страшно избили, и они, по показанию Зинки, три дня валялись возле речки на лугу за горою. Пансо был избит совершенно понапрасну: слушая призыв «бей! Зинка бей!», он все-таки никогда никого не бил и в этом деле тоже оставался ни пред кем не повинным. Мужики этого ничего не разбирали, и от них досталось даже и коням Дон-Кихота, которых изувечили, и тарантасу, в котором изломали колесо и украли из него железный шкворень.
Несчастные бог весть как собрались с силами, вымыли у реки опустевшую орбиту выбитого глаза Дон-Кихота, подвязали изорванные мочалы упряжи и на трех колесах, при содействии деревянного шкворня, дотащились до Протозанова, где в незаметности остались ожидать, не станут ли их разыскивать.
Мужики, с которыми происходил этот последний бой, были, однако, не из сутяжливых: они, покончив дело своею расправой, ничего более не искали, и Дон-Кихот, успокоясь на этот счет и поправясь в силах и здоровье, теперь опять уже расправлял свои крылья и, нося руки фертом, водил во все стороны носом по воздуху, чтобы почуять: не несет ли откуда-нибудь обидою, за которую ему с кем-нибудь надо переведаться.
В это-то самое время у бабушкиного крыльца и застучали колеса кареты петербургского графа.
Княгиня обедала по-деревенски, довольно рано, в два часа. Не изменяя для архиерея своего места в церкви, она, разумеется, не нарушала и порядков своего дома ни для какого гостя. Званый гость ожидался сверх положения четверть часа, и если он в течение этой четверти часа не приезжал, то стол начинался. Гость, опоздавший и приехавший во время обеда, имел неудовольствие получать все блюда с начала и видеть, как все ради его одного сидят и ожидают, пока он вступит в очередь. Это было ему наказание за неаккуратность.
Губернатору и графу Функендорфу угрожало то же самое: в зале пробило уже два часа, а они еще не жаловали. Обладавшие аппетитом гости напрасно похаживали около окон и посматривали на открытую дорогу, на которой должен был показаться экипаж, – однако его не было. Проходила уже и отсроченная четверть часа, и княгиня готовилась привстать и подать руку Рогожину, который имел привилегию водить бабушку к столу, как вдруг кто-то крикнул: «Едут!»
Все сунулись к окнам, разумеется все, кроме княгини; бабушка, конечно, не тронулась; она сидела в углу дивана за круглым столом и удержала при себе Марью Николаевну. Любопытство княгини ограничивалось только тем, что она со своего места спросила глядевших в окно:
– Как они?
Ей отвечали:
– В четвероместной карте, ваше сиятельство.
– Гм… в четвероместной?
– Да-с, четвероместной, ваше сиятельство.
– Гм… Патрикей, слышишь! сообрази сервиз.
Патрикей поклонился и вышел прибавить сервиза; а в это время с наблюдательного поста, откуда видно было, как приезжие высаживались, подан голос, что приезжих только трое, а не четверо, и все мужчины.
– Кто же третий?.. молодок кто-нибудь… Верно, секретарек при нем?
– Нет-с, не секретарек, а это… это Иван Петрович Павлыганьев.
Бабушка наморщила лоб и переспросила:
– Кто-о?
– Павлыганьев!.. предводитель Павлыганьев!
– Быть этого не может!
– Он-с.
– Кто же у них на передней лавке сидел?
– Да он и сидел, – отвечал Дон-Кихот.
– Что ты, батюшка, вздор говоришь.
– Нет-с, не вздор, я сам видел, как карету открыли!
И Рогожин круто повернулся на каблуке и, сделав княгине гримасу и укоризненный жест рукою, прошипел с пеной у рта:
– А это всё вы-с!
– Ну, оставь это покамест, – отвечала бабушка, но Дон-Кихот был не в расположении оставлять и настойчиво продолжал:
– Вы его советовали выбрать!
– Доримедонт Васильич, умилосердись же, ради бога, оставь! Я, так и я: ведь не прежде холмов я создана и могу ошибаться, но не время теперь об этом говорить, когда люди входят.
Они действительно входили. В зале уже слышались шаги и сухой, немножко недовольный кашель, очевидно исходивший от лица, которому желалось бы, чтоб его встретили.
Дьяконица Марья Николаевна уже начала приседать и подпрыгивать, а бабушка с Дон-Кихотом перекинулась последними летучими фразами.
Она шептала:
– Бога ради, оставь!
А он отвечал:
– Ну уже это извините-с: не покорюсь!
– Прошу тебя, Доримедонт Васильич! – и бабушка, не докончив последней фразы, перевела глаза с Дон-Кихота на двери, в которые входили гусем: губернатор, за ним высокий, плотно выбритый бело-розовый граф, с орденскою звездой на фраке, и за ним опять последним Павлыганьев.
При появлении этой добродушной толстой фигуры Дон-Кихот громко щелкнул каблуками и повернулся к нему спиной… Бабушка теперь уже не могла усмирять расходившегося дворянина: она выслушивала, как губернатор репрезентовал ей заезжего гостя и потом как сам гость, на особом французском наречии, на котором говорят немцы, сказал княгине очень хитро обдуманное приветствие с комплиментами ее уму, сердцу и значению.
Все это было не в ее вкусе, но она смолчала и пригласила гостей присесть на минуту, а потом сейчас же почти встала и, подав руку графу, отправилась к столу.
В этой спешности преминули все опасности со стороны Марьи Николаевны, которая по этому случаю была очень счастлива и, подхватив под руку Дон-Кихота, просила его:
– Батюшка Доримедонт Васильич, усади ты меня, голубчик, так, чтобы меня не видно было, если он по-французски заговорит… А то я, ей-богу, со страху «вуй»[7] отвечу.
– Не бойтесь! – отвечал Рогожин, становясь с Марьей Николаевной в самую последнюю пару, и, усадив ее за столом ниже большой соли и заслонив своим локтем, добавил ей:
– Но если непременно захотите по-французски отвечать, то не забудьте, что надо сказать не просто «вуй», а «вуй, мусье».
– Это я выговорю, – ответила, успокоясь, Марья Николаевна; но только оказалось, что все ее беспокойство было совсем напрасно: граф был сильно занят разговором с княгинею, которая его слушала с очевидным вниманием и, по-видимому, не обращала ни на что более внимания. Но это только так казалось, потому что когда Рогожин спросил предводителя: не было ли ему беспокойно ехать в карете на передней лавочке, а тот ему ответил, что это случилось по необходимости, потому что его экипаж дорогою сломался, то княгиня послала Дон-Кихоту взгляд, который тот должен был понять как укоризну за свое скорое суждение.
Обед кончился благополучно: гость был разговорчив; бабушка внимательно его слушала. В словах его для княгини было много любопытного, она опознавала по ним знамения времени и духа общества в столице, в которую снаряжалась. Вопросами дня тогда был чугуевский бунт: казаки не хотели быть уланами и на все делаемые им убеждения отвечали, что они «воле правительства подчиняются, но своего желания не имеют». Из этого был сделан бунт. Газет тогда по деревням мало получали, но о чугуевском деле в Протозанове знали по слухам, и когда были новые слухи, ими особенно интересовались. Граф же был близок к источникам всех новостей и рассказал об ужасах усмирения, но не так подробно, как знал об этом Рогожин и как он рассказал уже ранее. Бабушка это заметила и, почесав своим белым пальцем левую бровь, молвила: