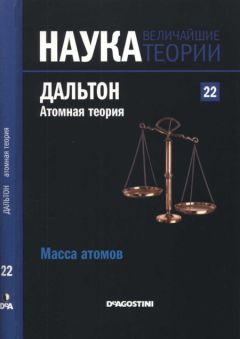урок, который пригодится мне в дальнейшем. Известно ведь, что на ошибках учатся. Я установил, в частности, что предсказания Пегги возникают параллельно с моими попытками писать и соотносятся с ними или, иными словами, с подступами к теме повторения. А установил потому, что две эти половинки, гороскопы и мои первые литературные опыты, должны были в скором времени совпасть и слиться, чего, однако, не произошло. Гороскопы превратились в тупиковую ветку, в пересохший источник, и к этому теперь мне предстояло как-то приноравливаться и жить дальше. Очевидно, что, используя две эти истории, я пытался сконструировать нечто такое, чего раньше не находил, потому, наверное, что еще не знал, как это выразить. Ибо сам метод неплох, его использовали писатели во всем мире: они сочетали такие явления, у которых на первый взгляд не было ничего общего, и верили, что это позволит им прикоснуться к тому, что находится в мире
невыразимого. Это нечто такое, что хорошо действует в психоанализе, но здесь, в своем дневнике, я этого сделать не сумел. А может, и сделал, только еще не успел осознать до конца. Как бы то ни было, теперь я знаю, что торить две разные дороги и пытаться сопрягать проблемы, на первый взгляд, не имеющие ни единой точки соприкосновения, не всегда приводит к благоприятному результату.
В то утро я собирался просмотреть «Старых супругов», пятый рассказ книги, но, слушая «Trouble in mind» в исполнении Биг Билла Брунзи, забыл о своем намерении и принялся вспоминать, что Борхес неизменно считал, что роман – это не повествование. И говорил, что роман слишком далеко отлетел от изустного творчества, а потому и утратил непосредственное присутствие собеседника, присутствие того, кто всегда способен передать умолчание и нечто подразумеваемое, то есть добиться лаконичности, в равной мере присущей «шорт-стори» и устному рассказу. Надобно помнить, говорит Борхес, что пусть даже присутствие слушателя, внимающего рассказчику, и можно счесть неким странным архаизмом, но рассказ отчасти и выжил благодаря этой, с позволения сказать, рухляди благодаря тому, что была сохранена эта фигура слушателя, эта тень минувшего.
Хоть я и не знаю, зачем думаю обо всем этом, но дневник ведь и предназначен продлевать существование того, о чем мы в один прекрасный день думали, чтобы в другой прекрасный день, вернувшись к словам, сказанным в то утро, мы обнаружили: мысль, походя занесенная в дневник, неожиданно превращается в ту единственную скалу, за которую мы можем уцепиться.
[ОСКОП 14]
Вчера Говнороскоп утратил свое полное имя и едва ли не смысл, потому что Пегги Дэй, его, мягко говоря, оскопила. И теперь он зовется Оскоп: частью – в знак траура по окончательной разлуке, а частью – как обычно-привычное и безмолвное празднование окончания дня. Оскоп, как и его предшественник Говнороскоп, – это не более чем проза, сочиненная на закате дня. Даже если проку от нее немного, все же она обращает внимание на предсказания Пегги Дэй, и сейчас, когда я отринул всю ее астрологию (и уже далеко позади осталось смертное измерение ее убогих словесных комбинаций, то есть ее умирающего языка, который не дает ни малейшей возможности выжить, по крайней мере, в этом дневнике), Оскоп пребудет здесь, выполняя одну из тех функций, что были заданы изначально – добавить к гаснущему дню все, что отыщется для добавления.
Освободившись от Пегги и ее убогого словарного запаса, я отдыхаю, потягивая джин, и пребываю в полном спокойствии: не встаю со своего красного кресла, на котором прежде работал как инженер-строитель, а теперь – как мыслитель, что, согласитесь, не в пример забавнее.
Ночью, когда я предавался разнообразным размышлениям и был, уж не зная почему, захвачен и воодушевлен ими, в полуоткрытое окно моего кабинета влетел аргентинский попугай.
Ткнувшись несколько раз в потолок, зеленая белогрудая птичка наконец упала на дно узкого проема – даже странно, как она туда пролезла – глубиной метра два с половиной, находящегося на вершине угла, который образуют два главных книжных стеллажа в моем кабинете. Эта щель сильно занимает меня теперь, потому что не будь этого ночного происшествия, я бы и не подозревал о ее существовании: чтобы увидеть ее, надо подняться на лесенку, а я за столько лет, прожитых в этом доме, ни разу не удосужился сделать это. Ни к чему мне это было, ничего наверху не было для меня интересного.
Зато Кармен, не поверив мне, сама взгромоздилась на лесенку и перепугалась до смерти, когда в самом деле увидела попугая на дне этой узкой норы, которую прежде и не замечала. Я понял, что если не разобрать оба дубовых стеллажа, то с учетом глубины этой щели и ввиду невозможности доступа ко дну, попугая не извлечь, и он в этом темном колодце, доселе невидимом и так неожиданно обнаружившемся в нашем доме, останется навсегда: сколько-то дней птичка будет верещать, а я – писать, не видя, но зато слыша его, а потом… ну, ясно, что потом – бедная божья тварь умрет, и останки его будут разлагаться, быстро распространяя смрад по всему дому, плодя червей, которые расползутся по книгам, заберутся под обложки и в конце концов сожрут их изнутри, смолотят всю мировую литературу.
Не представлялось возможным достать попугая с двухметровой глубины через узкую теснину, однако что-то ведь надо было делать.
– Надо что-то делать, – сказала Кармен. – Его надо извлечь оттуда.
Меж тем попугайские крики вдохновляли меня. Но я не мог признаться в этом жене, не осложняя ситуацию. Да, они помогали мне писать, особенно в те минуты, когда попугай через полуоткрытое окно сносился со своими сородичами – с целым семейством, по всему судя, поджидавшим его снаружи. И я писал в этом подвижном пространстве, заполненном отчаянными звуками, которые со дна щели неслись на улицу, а потом возвращались оттуда целым хором попугайских голосов, летевших из листвы деревьев и, казалось, вопрошавших моего невольного спутника о его местонахождении – откуда, мол, он делится своей тоской и тревогой. Самое скверное же, что я ничего не мог рассказать жене, потому что в этом случае она сочла бы меня еще более полоумным, чем ей казалось раньше.
А дело было в том, что Кармен нервничала все сильней – еще сильней она занервничала бы, только, если бы я ей сказал, что черпаю вдохновение в попугайских криках и они позволяют мне совершенствовать мое писательское мастерство – а я от этого, кажется, впал в своего рода ступор.