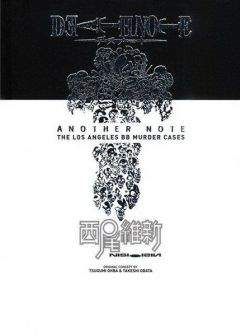Отецъ всѣхъ принималъ хорошо, сажалъ, угощалъ; иныхъ, кто былъ выше званіемъ или богатствомъ, онъ провожалъ до самой улицы.
Я же всѣмъ этимъ посѣтителямъ, безъ различія вѣры и званія, прислуживалъ самъ, подносилъ варенье съ водой и кофе, чубуки подавалъ и сигарки имъ дѣлалъ. Чубуки, конечно, предлагали только самымъ высшимъ по званію, а другимъ сигарки.
Всѣ меня поздравляли съ пріѣздомъ, привѣтствовали, хвалили и благословляли на долгую жизнь и всякіе успѣхи.
«Мы тебя теперь, Одиссей, яніотомъ нашимъ сдѣлаемъ», говорили мнѣ всѣ. Такъ меня всѣ одобряли, и я уже подъ конецъ сталъ меньше стыдиться людей. Вижу, всѣ меня хвалятъ и ласкаютъ.
Докторъ иногда выходилъ къ гостямъ; но большею частью онъ уходилъ утромъ изъ дома къ больнымъ, чтобы показать, что не къ нему гости, а къ отцу моему приходятъ, и что онъ это знаетъ.
Взойдетъ иногда на минуту въ гостиную, посмотритъ на всѣхъ въ лорнетъ, поклонится, высокую шляпу свою вѣнскую тутъ же надѣнетъ и уйдетъ, только бровями подергиваетъ.
Ненавидѣлъ онъ яніотовъ.
Гайдуша была во все это время очень гостепріимна, помогала мнѣ служить гостямъ, ничего не жалѣла для угощенія. Когда я просилъ у нея: «Еще, кира Гайдуша, одолжите по добротѣ вашей кофе на пять чашечекъ». Она отвѣчала: «И на десять, дитя мое, и на двадцать, паликаръ прекрасный».
Такъ она была гостепріимна и ласкова, что я уже подъ конецъ недѣли пересталъ ее почти и ламіей30 звать.
Видѣлъ я довольно многихъ турокъ за это время.
Видѣлъ я и самого Абдурраимъ-эффенди, о которомъ такъ часто говорилъ Коэвино; онъ приходилъ не къ отцу, а къ своему другу доктору. Наружность у него была очень важная, повелительная; худое лицо его мнѣ показалось строгимъ, и хотя докторъ клялся, что онъ добрѣйшій человѣкъ, я все-таки нашелъ, что обращеніе его съ отцомъ моимъ было уже слишкомъ гордо.
Докторъ представилъ ему отца, какъ своего стараго знакомаго; бей сидѣлъ въ эту минуту съ ногами на диванѣ, завернувшись въ длинную кунью шубку, и съ важною благосклонностью взглянулъ въ сторону отца. Отецъ подошелъ къ нему поспѣшно, согнувшись изъ почтительности, и коснулся концами пальцевъ руки, которую бей чуть-чуть ему протянулъ, даже и не шевелясь съ мѣста.
Я замѣтилъ еще, что Абдурраимъ-эффенди какъ будто бы брезгливо отдернулъ и отряхнулъ тѣ пальцы, къ которымъ отецъ прикоснулся.
Когда отецъ говорилъ потомъ что-нибудь очень почтительно, бей выслушивалъ его какъ будто бы и вѣжливо, но почти не отвѣчалъ ему, а смотрѣлъ съ небольшимъ удивленіемъ, какъ будто спрашивая: «А! и этотъ деревенскій старый райя тоже говоритъ что-то?»
Онъ даже иногда слегка улыбался отцу; но обращался тотчасъ же къ доктору и говоря съ нимъ становился веселъ и свободенъ, какъ равный съ равнымъ.
Искренно ли или лицемѣрно, но отецъ хвалилъ бея за глаза; но я не могъ долго простить ему это надменное обращеніе съ бѣднымъ моимъ родителемъ и со злобною завистью дивился, почему онъ оказываетъ такое предпочтеніе безумному Коэвино?
Гораздо пріятнѣе было для меня знакомство со старымъ ходжей Сеферъ-эффенди.
Вотъ былъ истинно добрый турокъ, почтенный, простодушный и забавный. Носъ у него былъ преогромный и красный; чалма зеленая; борода длинная, бѣлая; руки ужъ немного тряслись, и ступалъ онъ не очень твердо ногами, но глаза его были еще живые и блистали иногда какъ искры. Все онъ шутилъ и смѣялся. Знакомъ онъ былъ съ отцомъ моимъ давно.
Въ ту минуту, когда онъ пришелъ къ намъ, ни отца, ни доктора не было дома. Мы съ Гайдушей его пріняли и просили подождать; я самъ подалъ ему варенье и кофе. Онъ спросилъ меня, знаю ли я по-турецки? Я сказалъ, что на Дунаѣ, когда былъ малъ, недурно зналъ, но что здѣсь, въ Эпирѣ, немного забылъ.
Сеферъ-бей, все улыбаясь, смотрѣлъ на меня пристально и долго не пускалъ отъ себя съ подносомъ, долго сбирался на это отвѣтить мнѣ что-то; думалъ, думалъ и сказалъ, наконецъ, по-турецки:
— Видишь, дитя, никогда не говори, что ты зналъ хорошо по-турецки! Слушай. Арабскій языкъ — древность, персидскій — сахаръ, а турецкій — великій трудъ! Понимаешь?
Я сказалъ, что понимаю. Старикъ тогда безъ ума обрадовался и хохоталъ.
Я хотѣлъ унести подносъ; но ходжа схватилъ подносъ за край рукою и спросилъ:
— Знаешь ли, дитя мое, кто былъ Саади?
Я сказалъ, что не знаю и не слыхалъ.
— Саади, дитя, былъ стихотворецъ, — продолжалъ Сеферъ-эффенди, одушевляясь. — Вотъ что́ онъ сказалъ про тебя, мой сынъ: «Этотъ кипарисъ прямой и стройный предсталъ предъ мои очи; онъ похитилъ мое сердце и повергъ его къ стопамъ своимъ. Я подобенъ змѣѣ съ раздавленною головой и не могу болѣе двигаться… Этотъ юноша прекрасенъ; взгляни, даже когда онъ гнѣвается, какъ пріятна эта строгая черта между его бровями!» А Гоммамъ-Эддинъ, другой стихотворецъ, сказалъ иныя слова, про тебя же: «Однимъ взглядомъ ты можешь устроить наши дѣла; но ты не желаешь облегчать страданія несчастныхъ». Это что́ значитъ, мой сынъ? Это значитъ, что ты долженъ всегда оставаться добродѣтельнымъ!
Я отъ этихъ неожиданныхъ похвалъ и совѣтовъ его такъ застыдился, что ушелъ въ другую комнату и, услыхавъ, что Гайдуша вслѣдъ мнѣ смѣется громко (она безъ церемоній сѣла и бесѣдовала съ ходжей), еще больше растерялся и не зналъ уже, что́ дѣлать. Слышалъ только, что Гайдуша сказала турку:
— Да, онъ у насъ картиночка писаная, нашъ молодчикъ загорскій, какъ дѣвочка нѣжный и красивый. А глаза, ходжа эффенди мой, у него, какъ сливы черные и большіе. На мать свою онъ похожъ.
— Это счастливый сынъ, я слышалъ, который на мать похожъ, — отвѣчалъ старикъ.
Сознаюсь, что хотя я и стыдился, а похвалы эти мнѣ были… ахъ, какъ пріятны!
Понравился мнѣ также тотъ молодой чиновникъ Сабри-бей, который показывалъ намъ въ конакѣ залу Али-паши.
Ничего въ немъ не было страшнаго или грубаго. Такой тихій, ласковый, съ отцомъ моимъ почтительный, руку все къ сердцу: «эффендимъ, эффендимъ!» Собой хоть и не особенно красивый, но такой высокенькій, худенькій, пріятный, съ усиками небольшими. По-французски онъ говорилъ свободно; а когда онъ начиналъ говорить по-турецки, языкомъ высокимъ, литературнымъ, то это было просто очарованіе его слушать; гармонія и сладость!
— Эффендимъ! — говорилъ онъ отцу моему вкрадчиво, сидя у насъ, — прошли времена мрака и варварства, и мы надѣемся, что всѣ подданные султана будутъ наслаждаться совокупно и въ несказанномъ блаженствѣ равенствомъ и свободой, подъ отеческою и премудрою властью!
— Есть еще, увы! многое, многое, эффенди мой, достойное сожалѣнія и жалобъ, — сказалъ ему отецъ.
— Эффенди мой, кто этого не видитъ! — возразилъ Сабри-бей съ достоинствомъ. — Но справедливо говорятъ французы: «Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!» Постепенно и неспѣшно все измѣняется! Все, рѣшительно все, вѣрьте мнѣ! И еще древній латинянинъ сказалъ: спѣши медлительно. И сверхъ того, прошу у васъ прощенія, сказалъ и другое хорошее слово французъ: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles».
Я, слыша это, вышелъ въ другую комнату и воскликнулъ самъ съ собою: «Нѣтъ, дѣйствительно турки сильно идутъ впередъ! Такъ что это для насъ даже невыгодно! Истинно сказано: «пути Провидѣнія неисповѣдимы!» И я печально задумался съ подносомъ въ рукѣ.
Въ эту минуту на лѣстницѣ раздался страшный, дикій ревъ и крикъ; ревъ этотъ не походилъ ни на визгъ Гайдуши въ гнѣвѣ, ни на восторженные клики Коэвино. Я вскочилъ съ испугомъ и встрѣтился вдругъ лицомъ къ лицу со страшнымъ человѣкомъ. Это былъ дервишъ. Смуглый, низенькій и сѣдой, въ высокомъ остромъ колпакѣ набекрень, въ длинной одеждѣ и съ огромною алебардой въ рукѣ.
Взглядъ его былъ ужасно грозенъ, и на одномъ вискѣ его подъ колпакъ былъ всунутъ большой букетъ свѣжихъ цвѣтовъ.
— Га! га! — кричалъ онъ, — га-га!
Не знаю, какъ даже изобразить тебѣ на бумагѣ его ужасный крикъ и ревъ! Я совсѣмъ растерялся и не зналъ, что́ подумать, не только что́ сдѣлать. Варваръ, однако, шелъ прямо на меня съ алебардой и сверкая очами. Поравнявшись со мной, онъ не останавливаясь поднесъ свою руку къ моимъ губамъ; и я поспѣшилъ поцѣловать ее, радуясь, что не случилось со мной ничего худшаго. Отецъ въ эту минуту приподнялъ занавѣсъ на дверяхъ и воскликнулъ какъ будто съ радостью:
— Браво! браво! Добро пожаловать, ходжи-Баба. Живъ ты еще? Милости просимъ, дѣдушка Сулейманъ!
Ходжи-Сулейманъ не обратилъ на слова отца никакого вниманія, движеніемъ руки отстранилъ его отъ дверей, прошелъ черезъ всю комнату, едва взглянувъ на Сабри-бея, и важно сѣлъ на диванѣ, потомъ уже сидя онъ осчастливилъ всѣхъ по очереди и небольшимъ поклономъ. Отецъ подалъ мнѣ знакъ, и я принесъ старику варенье и кофе (страхъ мой уже прошелъ и смѣнился любопытствомъ). Сабри-бей съ презрительною усмѣшкой спросилъ тогда у дервиша: «Какъ его здоровье?»
— Лучше твоего, дуракъ, негодяй, рогоносецъ! — отвѣчалъ старикъ спокойно.
Мы засмѣялись.
— Мнѣ сто двадцать лѣтъ, — продолжалъ ходжи, — а я скорѣй тебя могу содержать по закону четырехъ женъ, дуракъ, негодяй ты ничтожный.