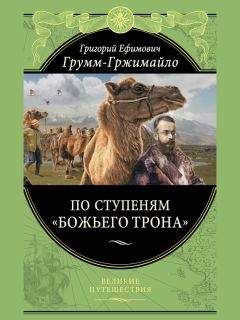Половецкая степь, которую, благодаря эпитету «дикая», мы представляем себе чуть ли не абсолютной пустыней, на самом деле таковой почти никогда не была. И. Е. Саратов в статье «Следы наших предков» (альманах «Памятники Отечества», № 2 за 1985 г.) отмечает, что уже с VIII — IX вв. в верховьях Северского Донца и его притоков существовало более двенадцати каменных крепостей: «Салтовская, Чугуевская, Змиевская, Дмитровская (на р. Короче), Подлысенковская (на р. Осколе), Волчанская, Коробовская, Кабановская, Мохначская, Гомольшанская, Нежегольская (на р. Нежеголь), Кодковская и Гумнинийская». И хотя ко времени Игорева похода в летописях упоминается уже гораздо меньшее число городов (Донец, Чугуев, Змиев, Шарукань, Сугров и некоторые другие), это вовсе не означает, что бежавший из плена князь ехал со своим проводником по б е з л ю д н о й местности. Как пишет в четырехтомной «Истории казаков» А. А. Гордеев (М., 1992), «в то время, когда в черноморских степях господствовали половцы, по течению рек: Дона, Северского Донца и их притокам жило разбросанное русское население, носившее название «бродников». Население это обслуживало РЕЧНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ, жило в пределах степной полосы и служило связью северных русских княжеств с Тмутараканью и морскими путями» (шрифтовые подчеркивания сделаны мною. Н.П.). Кажется, должно быть понятно, что, находясь на стыке культур двух народов, такие поселения не могли не стать пунктами взаимного обмена между ними различными услугами и товарами. Здесь, в этих «буферных зонах», обитали бежавшие от своих князей смерды и отбившиеся от племени половцы, здесь жили поджидающие выгодного «контракта» русские и половецкие наемники, работали кузнецы и оружейники, нанимались проводники для походов в Степь и переводчики для визитов на Русь, проводились регулярные торги и ярмарки. В Брянской области, например, по дороге на упоминаемый в русских летописях город Трубчевск, одно из сел ещё и доныне носит древнее название Переторги, в основе которого лежит тот же самый глагол, который мы видим и в «Слове о полку Игореве» — «претъргоста», т.е. «переторговали».
Для полноты понимания картины Игорева возвращения на Русь нельзя не учитывать и тот факт, что его побег из плена — это как бы и не совсем побег, поскольку он происходил при явной заинтересованности в его успехе хана Кончака. Да это и неудивительно, если вспомнить, что Кончакова дочь Свобода была к тому времени уже просватана за Игорева сына Владимира, и половецкому хану было мало проку от свата-п л е н н и к а, ему было нужно родство с действующим русским князем. Подтолкнуть Кончака к организации Игорева побега могли следующие события. Первое — это весть о возвращении из неудачного набега на Русь орды Гзака, способного (чтобы сорвать зло за свою неудачу) казнить Новгород-Северского князя. А второе — это политическая ситуация в самой Руси, возникшая после получения вести о поражении Игоря. По сообщению Ипатьевской летописи, находившийся в то время в черниговских землях князь Святослав Киевский, едва узнав о случившемся в Поле, сразу же послал в Новогород-Северское княжество своих сыновей Олега и Владимира с дружинами, а затем пригласил на помощь Давыда Смоленского, который, явившись на его зов, занял позиции у Треполя, южнее Киева.
Чем же можно объяснить то, что великий Киевский князь оставляет свое с о б с т в е н н о е княжество на попечение дружины смоленцев, а сам со своими сыновьями и войсками остается на территории Новгород-Северского удела? С одной стороны, конечно, в этом можно увидеть стремление прикрыть собою оставшееся незащищенным княжество Игоря. А с другой... Не случайно ведь та же самая летопись сообщает, что Ярослав Черниговский «съ полками своими стоялъ въ Чернигове», никуда не выступая и словно бы опасаясь, что главная угроза Игоревой вотчине исходит не от границ со Степью, а и з н у т р и, от Святослава и его сыновей. Ведь, уходя в поход, Игорь взял с собой и своих сыновей, так что в случае известия об их гибели княжество оставалось практически б е з н а с л е д н и к о в, а значит, вопрос столонаследия зависел только от оперативности самих претендентов на княжение. Поэтому и не уходил отсюда Святослав с сыновьями, одному из которых могло быть суждено стать Новгород-Северским князем. Поэтому же выжидал развития событий и Ярослав Черниговский, держа в боевой готовности свои дружины. Но именно поэтому торопился и хан Кончак, которому оставшийся без княжества сват был не нужен точно так же, как и сват плененный или убитый. И он послал к Игорю своего человека Влура, хорошо знающего не только места переправ через Донец и его притоки, но и те приграничные поселения, где можно было поменять лошадей, а сам успокоил разгневанного хана Гзака, а несколько позднее организовал бракосочетание Владимира Игоревича со своей дочерью. К тому времени князь Игорь уже благополучно достиг своей вотчины, и опасность её потери была ликвидирована...
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что уже в XII веке на приграничных с Русью землях в районе между реками Северским Донцом и Доном существовали поселения, послужившие прообразом будущих почтовых станций, на которых можно было за соответствующую плату ПЕРЕТОРГОВАТЬ утомленных скачкой лошадей на свежих, чем и воспользовались князь Игорь и его проводник на пути из половецкого плена на Русь.
БУСЫЙ ВОРОН, ЧТО ТЫ ВЬЕШЬСЯ?..
(Еще раз о загадках древнерусской поэмы о князе Игоре.)
Столько загадок, как в «Слове о полку Игореве», нет ни в каком другом литературном произведении. Здесь всё — от исторической подоплёки событий до примечаний комментаторов и издательских конъектур — вызывает сомнения и вопросы. И нельзя сказать, что ответы на одни из них важнее, чем ответы на другие, ибо и разгадка «тёмных мест», и уточнение значения любого из рядовых эпитетов одинаково работают на прояснение смысла поэмы, освобождая его, как почерневшую древнюю икону от копоти, от искажений древних переписчиков, ошибок первоиздателей и непонимания нынешних толкователей.
Возьмем, к примеру, такой эпизод поэмы как «сон Святослава». Великий Киевский князь видит себя лежащим в тереме на одре, где его омывают и обряжают для погребения, а за окнами, усугубляя эту мрачную картину, взмывают в черное киевское небо вороны:
Всю нощь съ вечера
БУСОВИ врани взграяху...
Объясняя это место поэмы, почти все комментаторы переводят слово «бусови» как эпитет «серые», что якобы подтверждается и появляющимся в сцене Игорева побега из плена образом волка, нарисованного похожими красками: «и скочи съ него БУСЫМЪ влъкомъ, и потече къ лугу Донца...» Однако, если в отношении волка перевод эпитета «бусымъ» как «серым» воспринимается привычно в силу распространенности сказочного образа именно СЕРОГО волка, то воронов (традиционно изображаемых в фольклоре исключительно ЧЕРНЫМИ [1]*) он не характеризует никак, тем более что ночью, за окном, лежащему на одре Святославу их вообще должно быть даже не столько ВИДНО, сколько СЛЫШНО.
[1] — вспомним-ка песню: «ЧЕРНЫЙ ворон, что ты вьешься над моею головой?» или название милицейского автомобиля — «ЧЕРНЫЙ ворон».
Значит, «бусови» — это не «серые», а что-то совсем другое. И это другое весьма отчетливо просматривается при разделении слова «бусови» на две части: «бу» и «сови» — то есть «будто совы», что придает строке логически безупречный и поэтически точный вид: «Всю ночь, с вечера, БУДТО СОВЫ, вороны взыгрывали...»
Действительно ведь — вороны ночью спят, а если по какой-либо причине они подняты с мест и не спят, то кому их ещё можно уподобить, если не совам?..
Что же касается отождествления образованной в результате данной конъектуры частицы «бу» со сравнительным союзом «будто», то этому способствует не только логика сравнения летающих ночью воронов с совами, но и второй случай употребления эпитета «бусый» в тексте поэмы. Речь идет о эпизоде Игорева побега из плена, когда он загнал своего коня, а потом «скочи съ него БУСЫМЪ влъкомъ, и потече къ лугу Донца», что комментаторы переводят как «и соскочил с него (с коня) серым волком, и помчался к излучине Донца».
Думается, в поэтическом смысле здесь был бы уместным более тонкий вариант сравнения. В украинском языке, к примеру, ещё и до сего дня существует сравнительный союз «буцiм» или «буцiмто», который как раз и переводится как «будто», «словно» или «будто бы». Это почти совпадает по звучанию с имеющимся у нас псевдоэпитетом «бусымъ» и перекликается с тем усеченным «бу», которое осталось с «совами» — «будто совы». Таким образом вся строка с волком будет иметь следующий, вполне понятный и не вызывающий никаких недоумений, вид: «и скочи съ него, БУЦIМЪ вълкомъ, и потече къ лугу Донца», что значит: «и соскочил с него, БУДТО волк, и помчался к излучине Донца».
Помимо двух выше приведенных эпизодов, есть в поэме и ещё один случай употребления слова с корневой основой «бус» — во фрагменте, описывающем последствия Игорева поражения: