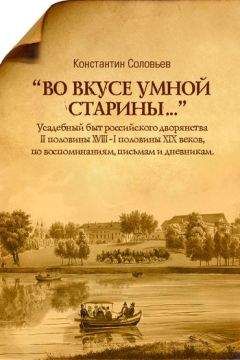"Мари, - писал он, - вы уже, я думаю, видите, что вы для меня все: жизнь моя, стихия моя, мой воздух; скажите вы мне, - могу ли я вас любить, и полюбите ли вы меня, когда я сделаюсь более достойным вас? Молю об одном скажите мне откровенно!"
От Еспера Иваныча между тем, но от кого, собственно, - неизвестно, за ним уж прислали с таким приказом, что отчего-де он так давно не бывал у них и что дяденька завтра уезжает совсем в Москву, а потому он приходил бы проститься. Павел, захватив письмо с собой, побежал, как сумасшедший, и действительно в доме у Имплевых застал совершенный хаос: все комнаты были заставлены сундуками, тюками, чемоданами. Мари была уже в дорожном платье и непричесанная, но без малейшего следа хоть бы какой-нибудь печали в лице. Павел пробовал было хоть на минуту остаться с ней наедине, но решительно это было невозможно, потому что она то укладывала свои ноты, книги, то разговаривала с прислугой; кроме того, тут же в комнате сидела, не сходя с места, m-me Фатеева с прежним могильным выражением в лице; и, в заключение всего, пришла Анна Гавриловна и сказала моему герою: "Пожалуйте, батюшка, к барину; он один там у нас сидит и дожидается вас".
Павел, делать нечего, пошел.
Еспер Иваныч, увидев племянника, как бы повеселел немного.
- Ну, и ты приезжай скорее в Москву! - сказал он.
- Я приеду, дядя, - отвечал Павел.
- Да, приезжай! - повторил Еспер Иваныч. - Аннушка! - крикнул он.
Та вошла.
- Дай мне вон оттуда, - сказал он.
Аннушка на это приказание отперла стоявшую на столе шкатулку и подала из нее Есперу Иванычу пакет.
- Это тебе, - сказал он, подавая пакет Павлу, - тут пятьсот рублей. Если отец не будет тебя пускать в университет, так тебе есть уж на что ехать.
- Дяденька, зачем вы беспокоитесь: отец отпустит меня! - проговорил Павел сконфуженным голосом.
- Все лучше; отпустит - хорошо, а не отпустит - ты все-таки обеспечен и поедешь... Маша мне сказывала, что ты хочешь быть ученым, - и будь!.. Это лучшая и честнейшая дорога для всякого человека.
- Я постараюсь быть им, и отец мне никогда не откажет в том, - произнес Павел, почти нехотя засовывая деньги в карман. Посидев еще немного у дяди и едва заметив, что тот утомился, он сейчас же встал.
- Я уж пойду к кузине, - сказал он, - прощайте дядя.
- Прощай! - проговорил Еспер Иваныч и поспешил племянника поскорее поцеловать. Он боялся, кажется, расплакаться и, чтобы скрыть это, усилился даже прибавить с усмешкою: - Не плачь, не плачь, скоро воротимся!
Павел почти бегом пробежал переходы до комнаты Мари, но там его не пустили, потому что укладывали белье.
- Мари, я совсем уже ухожу и желаю с вами проститься! - воскликнул он чуть-чуть не отчаянным голосом.
- Я сейчас выйду! - отвечала Мари и действительно показалась в дверях.
За нею тоже вышла и m-me Фатеева и, завернувшись, по обыкновению, в шаль, оперлась на косяк.
Одна только совершенно юношеская неопытность моего героя заставляла его восхищаться голубоокою кузиною и почти совершенно не замечать стройную, как пальма, m-me Фатееву.
- Ну-с, извольте, во-первых, хорошенько учиться, а во-вторых, приезжайте в Москву! - сказала Мари и подала Павлу руку.
- Слушаю-с, - отвечал он комическим тоном и как-то совершенно механически целуя ее руку, тогда как душа его была полна рыданиями, а руку ее он желал бы съесть и проглотить!
- Ну-с, адье! - повторил он еще раз.
- Адье, - повторила и Мари.
- Вы тоже скоро уезжаете? - обратился Павел к m-me Фатеевой.
- Тоже.
Он и ей протянул руку.
Она ему пожала ее.
Отдать письмо Мари, как видит сам читатель, не было никакой возможности.
XV
ДРУГОЙ УЧИТЕЛЬ И ДРУГОГО РОДА УВЛЕЧЕНИЕ
Как ни велика была тоска Павла, особенно на первых порах после отъезда Имплевых, однако он сейчас же стал думать, как бы приготовиться в университет. Более всего он боялся за латинский язык. Из прочих предметов можно было взять памятью, соображением, а тут нужна была усидчивая работа. Чтобы поправить как-нибудь себя в этом отношении, он решился перейти жить к учителю латинского языка Семену Яковлевичу Крестовникову и брать у него уроки. Об таковом намерении он написал отцу решительное письмо, в котором прямо объяснил, что без этого его и из гимназии не выпустят. "Ну, бог с ним, в первый еще раз эта маленькая подкупочка учителям будет!" - подумал полковник и разрешил сыну. Михайло Поликарпыч совершенно уверен был, что Павел это делает не для поправления своих сведений, а так, чтобы только позамилостивить учителя. Семен Яковлевич был совершенною противоположностью Николаю Силычу: весьма кроткий и хоть уже довольно пожилой, но еще благообразный из себя, он принадлежал к числу тех людей, которые бывают в жизни сперва хорошенькими собой мальчиками, потом хорошего поведения молодыми людьми и наконец кроткими и благодушными мужами и старцами. При небольшой сфере ума, Семен Яковлевич мог, однако, совершенно искренно и с некоторым толком симпатизировать всему доброму, умному и прекрасному, и вообще вся жизнь его шла как-то ровно, тихо и благоприлично. Происходя из духовного звания, он был женат на дворянке - весьма приятной наружности и с хорошими манерами. Хотя они около двадцати уже лет находились в брачном союзе, но все еще были влюблены друг в друга, спали на одной кровати и весьма нередко целовались между собой. Они очень чистоплотно жили; у них была какая-то необыкновенно белая и гладко вычесанная болонка, на каждом почти окне - по толстой канарейке; даже пунш, который Семен Яковлевич пил по вечерам, был какой-то красивый и необыкновенно, должно быть, вкусный. Совестливые до щепетильности, супруг и супруга - из того, что они с Павла деньги берут, - бог знает как начали за ним ухаживать и беспрестанно спрашивали его: нравится ли ему стол их, тепло ли у него в комнате? Павел находил, что это все превосходно, и принялся вместе с тем заниматься латинским языком до неистовства: страницы по четыре он обыкновенно переводил из Цицерона[28] и откалывал их Семену Яковлевичу, так что тот едва успевал повторять ему: "Так, да, да!"
- Я и текст еще выучил, - прибавил Павел в заключение.
- И текст, давайте, спросим, - говорил Семен Яковлевич с удовольствием.
Павел и текст знал слово в слово.
- Эка памятища-то у вас, способности-то какие! - говорил Семен Яковлевич с удивлением.
Павел самодовольно встряхивал кудрями и, взяв под мышку начинавшую уж становиться ему любезною книжку Цицерона, уходил к себе в комнату.
Между тем наступил великий пост, а наконец и страстная неделя. Занятия Павла с Крестовниковым происходили обыкновенно таким образом: он с Семеном Яковлевичем усаживался у одного столика, а у другого столика, при двух свечах, с вязаньем в руках и с болонкой в коленях, размещалась Евлампия Матвеевна, супруга Семена Яковлевича.
В одно из таких заседаний Крестовников спросил Павла:
- А что, вы будете нынче говеть?
- Да, так, для формы только буду, - отвечал тот.
- Зачем же для формы только? - спросил Крестовников несколько даже сконфуженным голосом.
- Некогда, решительно! Заниматься надо! - отвечал Павел.
- Нет, вы лучше хорошенько поговейте; вам лучше бог поможет в учении, вмешалась в разговор Евлампия Матвеевна, немного жеманничая. Она всегда, говоря с Павлом, немного жеманилась: велик уж он очень был; совершенно на мальчика не походил.
Павел не согласен был с ней мысленно, но на словах ничего ей не возразил.
В страстной понедельник его снова не оставили по этому предмету в покое, и часу в пятом утра к нему вдруг в спальню просунул свою морду Ванька и стал будить его.
Павел взмахнул на него глазами.
- Семен Яковлевич приказали вас спросить, пойдете вы к заутрене? спросил Ванька сильно заспанным голосом.
Павлу вдруг почему-то стало совестно.
- Пойду, - отвечал он и, чтобы не дать себе разлениться, сейчас встал и потребовал себе умываться и одеваться.
Ванька спросонья, разумеется, исполнял все это, как через пень колоду валил, так что Семен Яковлевич и Евлампия Матвеевна уже ушли, и Павел едва успел их нагнать. Свежий утренний воздух ободряющим и освежающим образом подействовал на него; Павел шел, жадно вдыхая его; под ногами у него хрустел тоненький лед замерзших проталин; на востоке алела заря.
Приходская церковь Крестовниковых была небогатая: служба в ней происходила в низеньком, зимнем приделе, иконостас которого скорее походил на какую-то дощаную перегородку; колонны, его украшающие, были тоненькие; резьбы на нем совсем почти не было; живопись икон - нового и очень дурного вкуса; священник - толстый и высокий, но ризы носил коротенькие и узкие; дьякон - хотя и с басом, но чрезвычайно необработанным, - словом, ничего не было, что бы могло подействовать на воображение, кроме разве хора певчих, мальчиков из ближайшего сиротского училища, между которыми были недурные тенора и превосходные дисканты. Когда, в начале службы, священник выходил еще в одной епитрахили и на клиросе читал только дьячок, Павел беспрестанно переступал с ноги на ногу, для развлечения себя, любовался, как восходящее солнце зашло сначала в окна алтаря, а потом стало проникать и сквозь розовую занавеску, закрывающую резные царские врата.