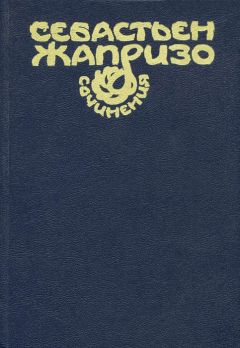Между тем Иуда подошел к воротам вплотную - к привратнику в фиолетовых бархатных штанах, сидевшему в теньке на пластмассовом стульчике.
- Пропуск! - сказал привратник.- Куда прешь?
- Вот.- Иуда порылся в кармане и протянул.
- Лю-тов,- по складам прочитал привратник.- Кирилл. Зачем пришел?
- Да я возвращаюсь,- сказал Иуда Гросман.- На родину, так сказать. Тут мой дом, тут мое место. Да-да.
- Погоди-ка,- распорядился привратник.- Эй, ты! - Он, не подымаясь со стула, замахал рукой, подавая сигнал босоногой молодайке, неподвижно стоявшей в арке ворот, у стены.- Ты этого знаешь гражданина?
Женщина взглянула мельком и отчетливо дала показание:
- Знаю.
- Ну, проходи,- разрешил привратник.
Иуда шагнул в арку и, поравнявшись с женщиной, остановился рядом с нею. Она была одета в длинную солдатскую шинель, сидевшую на ней мешком. Из-под низкого неровного подола выглядывали голые ноги с маленькими неразношенными ступнями. "Вот Шарло бы порадовался!" - отметил Иуда и спросил:
- Тебя как звать?
- Тамара,- сказала молодайка и распахнула шинель. Иуде открылось красивое голое тело молодой женщины: высокие округлые груди, крылья темного треугольника внизу живота.
- Тамар? - дивясь, переспросил Иуда Гросман.
- Тамара,- поправила молодайка.- Тамар - та сидела, а я, видишь, стою... Ну идем.
- Куда? - спросил Иуда.
- Тут рядом,- сказала Тамара.- Деньги есть?
- Нет денег,- сказал Иуда и то ли смущенно, то ли виновато пожал плечами.
- Тогда залог,- сказала Тамара, быстро шагая. Руки она держала в карманах, чтобы полы шинели не отпахивались.
- Перстень? - поинтересовался Иуда.- Пояс? Нет у меня ничего. Может, очки?
- Пояс,- строго кивнула Тамара.- И очки. Принесешь деньги - получишь залог.
Дивясь и глазея по сторонам, пока не отобрали очки, Иуда поспевал за Тамарой. Это приключение увлекало его и пугало: затащат в какую-нибудь дыру, зарежут. Кто, за что? Ответы на эти вопросы даже не брезжили, это-то и пугало. Но так хотелось, лежа на колючей шинели, медленно гладить тело Тамары.
- Ты местная? - поспевая, спросил Иуда.- Это что за город?
- Город как город,- не оборачиваясь, сказала Тамара.- Не узнаёшь? Ты же вернулся!
- Ну да,- с сомнением согласился Иуда.- А тебя я что-то не помню.
- Ну и хорошо, что не помнишь,- сказала Тамара, продолжая шагать.
У какой-то лачуги, запертой на висячий замок, остановились. Тамара достала из кармана ключ размером с куриную ногу.
- Входи! - сказала Тамара и, пропустив Иуду, притворила за ним шаткую узкую дверь. Протискиваясь, Иуда тесно прикоснулся к женщине, сердце его радостно подпрыгнуло, а потом медленно опустилось на место; он услышал слабый лесной запах молодого тела, дыхание его сделалось коротким.
Посреди лачуги стоял крепкий круглый стол, на столе дымился темный чай в хрустальном стакане, в серебряном подстаканнике, а рядом, на блюдечке, торчала пунцовым соском вверх горка спелых крупных вишен. Пройдя мимо стола, Тамара прошла в угол, одним долгим движением скинула шинель и разложила, расстелила ее на ворохе мягких кипарисовых веток.
- Иди...- позвала.
Кожа у нее была шелковистая, прохладная, тело - послушное и податливое, вся она - праздник.
- Боже мой,- сказал Иуда,- так ведь не бывает. Мне это приснилось?
- Просто ты стареешь понемногу, Иуда,- сказала Тамара и свела четкие брови под чистым лбом.
- Ты меня знаешь? - спросил Иуда.- Откуда?
- Кто ж тебя не знает! - сказала Тамара.- Ты вон какой знаменитый.
- Бог мне тебя дал,- сказал Иуда благодарно.- И если бы...
- Не торгуйся с Богом! - поспешно перебила Тамара.- "Если бы" никому нельзя говорить. Ни тебе, никому. Только сказочнику.
- Почему? - спросил Иуда.
- Сказочнику можно,- сказала Тамара.- С ним Бог играет.
- А я и пишу сказки,- помолчав, сказал Иуда.- Ты разве не знала?
- Ты и сам не знал,- сказала Тамара.
- Теперь знаю,- сказал Иуда.- Ты ангел? И этот чай с вишнями.
- Белый ангел,- со значением сказала Тамара.
- А дальше? - спросил Иуда.
- А дальше - Черный,- сказала Тамара.- Черный ангел. Ты же вернулся домой.
А дома как будто ничего и не происходило. Одесса вспоминала о знатном земляке лишь по поводу: выход книги, статья в "Правде" или день рождения, и пока знаменитый Иуда Гросман распивал коктейли в Париже, далеком, как Луна, поводы не случались. Жизнь плелась, выцветая. Литературное кафе "Верлибр" закрылось на ремонт, да так больше и не открылось, в бильярдной "Порто-Рико" произошла жестокая перестрелка между бандитами, в результате чего владелец заведения был убит наповал шальной пулей. Давние приятели Иуды перебрались в Москву, их можно было встретить теперь в редакциях журналов и газет или в писательском ресторанчике на Цветном бульваре.
Да и Москва отличалась короткой памятью: об Иуде Гросмане не забывали лишь в отделе закордонной разведки ОГПУ, на Лубянке, да и то по долгу службы. Отчеты парижского резидента о неровном поведении писателя приходили регулярно и подшивались куда следует. Если кто и ждал Иуду на просторах родины, так это киевская домработница Клава; но и она почти потеряла надежду.
Дело заключалось в том, что не было у Иуды Гросмана никакого дома. В парижском гостиничном номере, ночью, положа руку на сердце, нельзя было всерьез считать домом Советский Союз со всеми его березами, степями, глинобитными азиатскими кишлаками и чукотскими чумами. Жилплощади не было у Иуды, и это наводило глухую тоску. Квартиру на Остоженке, на третьем этаже, пришлось оставить при разводе, пришлось оттуда съехать, увозя коробки с книгами и фотографиями. Об этом не хотелось вспоминать, следовало давным-давно вымарать те дни из перегруженной памяти. Комнатенка в коммуналке, которую удалось потом выцарапать через Моссовет, могла считаться домом только с большой натяжкой. И никто там не ждал, за пыльными окнами, сидя на раскладушке.
Бездарному Демьяну дали бы, окажись он в таком положении, хоть Василия Блаженного под жилье, провели бы электрический звонок и дали. Да что Демьян, к нему Сам в гости ходит! Бездарному Безыменскому с его зубами навыкате выделили бы без звука отдельную двухкомнатную, а то и трехкомнатную квартиру в самом центре, внутри Кольца. А ему, знаменитому Гросману, кинули, как селедочную голову, грязный угол в коммуналке.
Но и в Париже, если смотреть на вещи пристально, никто ничего не даст, кроме своих. В посольстве командировочные выдают без звука, гостиницу оплачивают. Можно, конечно, послать их всех к черту, неделю-другую пожить посреди пруда в Фонтенбло, валяться там на газетах по соседству с бродягой. Ну а потом? Свобода - ведь тоже не только состояние души. Бунин поможет беглому собрату Иуде Гросману? Как же, обязательно! Поможет, даст, потом догонит и еще добавит. Или Махно с этой его ненормальной? Или поехать с Жаботинским в Палестину и биться там с англичанами? Арабский конь, глубокое седло, в седле князь Давид Реувейни с казацкой нагайкой... Но Жаботинский, нетерпеливо слушая Иуду Гросмана, только и делал, что фыркал и поглядывал иронически. Два Давида Реувейни на одном коне - это действительно перебор.
А дома что начнется, на родных болотах! Жабий вой, комариный писк. Тот же холощеный Безыменский со своей кочки расквакается: предатель трудового народа, отщепенец! Иудушка Гросман! Четвертовать!.. И выкинут рукописи из коммуналки. Сожгут. И саму память о нем засыплют известью, это они умеют. Останется пробел в литературе, потом и он зарастет, затянется ряской.
Впрочем, после возвращения могут дать наконец-то и приличную квартиру. И? Тяжелый, как дредноут, обеденный стол под плюшевой скатертью с оборкой и кистями, раз в неделю полотер с надетой на ногу щеткой, отвратительная жена с морщинистой грудью. Дети бегают под столом, шумят и плачут. Вечером является без звонка, на правах родственницы брудастая теща и, жуя цимес, щелкает желтыми вставными зубами. Жуть! Здоровая семья начинается с квартиры: свято место пусто не бывает. С улицы привычно несет гнилью, за окном скрежещет и дребезжит трамвай "Букашка". На стене висит мутное дедово зеркало цвета стоялой мочи.
Так сложилось: читатели Иудиных книг живут там, на болоте.
Жаботинский фыркал. Откинувшись на спинку кресла и опершись сильными руками о подлокотники, он разглядывал Иуду Гросмана, словно незнакомый экспонат сквозь лабораторное стекло.
- Ваша литературная жизнь - это неинтересно,- обрывая Иуду, сказал Жаботинский.- Согласитесь, есть в мире вещи поважней... Как там наши евреи? Вы ведь пишете о них, стало быть, кое-что знаете.
- Евреи, Владимир Евгеньевич, не испытывают у нас никаких неприятностей.Иуда наморщил лоб и запнулся.- Привычных, так сказать, неприятностей.
- Не говорите глупостей! - фыркнул Жаботинский.- А ассимиляция? А еврейские большевики - они что, новые мараны? Силком их загоняют в партию? Или идите, или в костер? Сталинцы - ведь не католики, никакой Торквемада против ЧК не устоит.