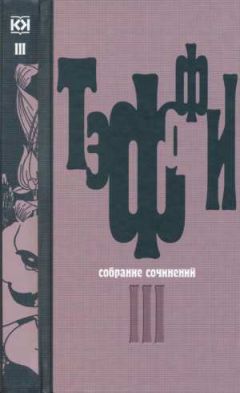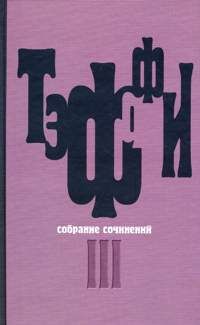На почте Сорокин испортил четыре телеграфных бланка. Хотел составить телеграмму сначала осторожную, потом деловитую и, наконец, решил мстить негоднице и быть жестоким. Окончательная редакция телеграммы была такова:
Venez vite stop votre malheureux mari suisside stop horreur
Sorokine[12]
Подумал, что добросовестнее было бы телеграфировать, что умер, раз самоубийство еще не установлено, но потом решил, что так ей будет больнее. Очень уж раскалился.
А в это время Левашов, уныло опустив голову, шел к себе домой.
«Это ужасно, – думал он. – Надеюсь, что это все-таки не самоубийство. Но ведь не мог же я в самом деле святым духом знать, что его положение так безвыходно. Допустим, что я согласился бы дать ему эти несчастные четыре тысячи – очевидно, это его не спасло бы, раз положение было так уж серьезно. Это паллиатив. Короткая отсрочка, а затем что? Затем либо опять выручай, либо снова вопрос о самоубийстве. Нельзя же так, господа. Не обязан же я в самом деле… А с другой стороны, если бы я дал ему эти деньги, может быть, он и вывернулся бы. Надо было дать. Он сделал вид, что мой отказ не особенно огорчил его, но теперь-то я вижу, какой выход был у него на уме. Надо было дать. Теперь, конечно, не вернешь. Тяжело. Очень тяжело. Но разве мог я знать? Если бы знал, так конечно…»
* * *
Море, солнце, джаз, пижамы без спины, загар красный, загар бурый, загар оливковый.
Но Мурашевой не до того. Не до джаза и не до загара.
Она сидит у себя на балкончике и тупо смотрит на мятый клочок синей бумаги с наклеенными на нем белыми полосками. На белых полосках бездушный аппарат выстукал жестокие строки, составленные мстительным Сорокиным.
У Мурашевой красный нос и красные глаза. Она уже два раза плакала. Она очень огорчена. Тем более что вот уже два дня, как она стала с нежностью думать о муже. Потому что без нежности думала о Петруше Нетово.
Петруша Нетово оказался не на высоте. Она четыре раза сказала ему, что муж опаздывает с присылкой денег, а он, как говорится, хоть бы бровью повел. В последний раз она даже не поскупилась на некоторую инсценировку: ничего не ела за завтраком, а был, между прочим, омар по-американски, которого она очень любила, и вообще хотелось есть. А он, вместо того, чтобы забеспокоиться и спросить, в чем дело, на что и последовал бы с ее стороны ответ о муже и деньгах, он только вскользь сказал:
– Что же вы не едите? Увлекаетесь худением?
Какой болван! Разве можно его сравнить с Мишей? Миша все-таки заботливый. И она променяла его на такого селезня! Бедный Миша!
Он даже вида не показал, что ему неприятен был ее отъезд. Конечно, он догадался или кто-нибудь открыл ему глаза. И вот он, без злобы, без упрека, гордо и красиво ушел из жизни. О, может быть, он еще жив? Опасно ранен, но жив? Она бы выходила его, и всю жизнь, всю жизнь… В дверь стукнули, и вошел Петруша.
– Что случилось?
Она взглянула на него с ненавистью:
– Муж все узнал и покончил с собой.
Петруша тихо свистнул и опустился на стул.
– Что же теперь?
– Уезжаю с вечерним поездом.
Петруша снова свистнул.
– Уходите! – крикнула Мурашева и громко, с визгом заплакала.
* * *
Отослав телеграмму, Сорокин отправился прямо домой. Нужно было еще пойти по кое-каким делам, но он так себя настроил и расстроил, что решил дела отложить, а подождать дома назначенные на сегодня rendez-vous[13].
Сидел, ждал, думал о смерти и мучился за Мурашева.
Покончив с делами и проводив посетителей, он уже приготовился было поехать на квартиру Мурашева расспросить хоть консьержку о подробностях, как вдруг телефон донес до него голос Балавина, того самого, который сообщил ему утром печальную весть.
– Голубчик! Идиотская ошибка! Умер не Мурашев, а Парышев, тоже мой знакомый. А Мурашев жив и здоров, и сейчас заходил ко мне занимать деньги.
– Ну вы, надеюсь, не дали? Как все это глупо! – сердито оборвал его Сорокин. – Чего же вы путаете, людей с толку сбиваете. А я телеграмму послал. Бедная Наташа там, наверное, с ума сходит. Пошлю сейчас другую. До чего все это глупо.
Ему стало жаль Наташу. Молоденькая женщина, в первый раз в жизни вырвалась. Так понятно. Этот Мурашев – олицетворенная хандра. Сам, небось, не застрелился, а ее, пожалуй, при случае пристрелит. Нужно позвонить Левашову, а то он как будто расстроился.
* * *
После телефонной беседы с Сорокиным Левашов, иронически смеясь сам над собой, думал:
«Нет, милый мой, такие не стреляются. Наверное, еще десять раз прибежит попрошайничать. Хорошо сделал, что не дал. Дать раз, потом не отвяжешься. И, наконец, я же не виноват, что они не умеют устраивать свои дела. Придет еще раз – не приму его, и кончено. Так проще всего».
* * *
Петруша Нетово уныло укладывал в чемодан свои вещи. Он не хотел оставаться один в Жуан-ле-Пэн. Он был расстроен.
«Глупо все это. Из-за такой ерунды погиб хороший человек. Если бы она не лезла ко мне, он мог бы быть моим другом. Из них двух во всяком случае он интереснее. Конечно, в другом роде, но все же. И зачем нужно было затевать эту поездку? Сидели бы в Париже. Несчастный человек. Так погибнуть ни за что. И я даже не замечал, что он догадывается. Как он умел скрывать свое горе! Гордая, красивая душа! О, если бы я мог заплакать, мне было бы легче».
– Петруша! Петруша! – кричала Мурашева, вбегая в комнату Нетово. – Петруша! Ура! Все напугали. Вот телеграмма. Этот болван преспокойно жив. Вот, читай:
«Ochibka stop Mouracheff give et zdorove stop privete Petrouche zeloujou ruchki.
Vache Sorokine».
– Как я рада. «Зелую рюшки». Значит, все благополучно. Хорошо все-таки, что он жив. Я, конечно, не люблю его, потому что я вся твоя, но все эти трагедии так противны. Ну, поцелуй же меня и бежим со мной в Казино.
И Петруша поцеловал ее и побежал с ней в Казино.
Наружность у Маргариты Николаевны была, что называется, интересная. Можно было изучать ее часами и все равно ничего не понять.
Какой, например, она масти? Волосы у нее темно-рыжие в локонах, желтые на висках, красные на темени, вишневые на затылке.
Где правда? Куда смотреть с доверием? Куда со снисхождением к женской слабости? Куда с осуждением? Куда с восторгом?
Брови черненькой ниточкой без волос – как пигмент. Ресницы синие. Ноздри сиреневые. Губы оранжевые. Зубы фарфоровые, голубоватые с золотом.
И весь этот хаос и игра красок озаряются мудрым выражением тусклых серых глаз. Глазам пятьдесят четыре года.
У Маргариты Николаевны репутация умной женщины. К ней приходят за советом в психологически трудную минуту. Исключительно женщины. В материально-трудную минуту к ней не приходят. Вполне логично. Раз она умная, значит, денег не даст.
Маргарита Николаевна садилась на диван спиной к свету, психологически запутанную даму сажала лицом к окну – от чего не только душевные, но и физические ее тайны, вылезали наружу – и задавала наводящие вопросы.
Иногда после двухчасовой беседы совет являлся совершенно простым и очень коротким!
– Да плюньте и все тут.
– То есть как так плюнуть? – удивлялась запутанная женщина. – Ведь он же, однако, безумствовал, он возил меня четыре раза обедать. У меня было столько неприятностей от мужа, приходилось врать и ему, и дочке, и… и, наконец, Андрею Петровичу, который очень страдает. Так же нельзя. Как говорится – за что боролись?
– Плюньте, плюньте и плюньте! – спокойно повторяла Маргарита Николаевна. – Я понимаю все. Он вас бросил, и вы в отчаянии. Когда человек в отчаянии, он должен прежде всего плюнуть.
– А я специально для него купила шляпу с голубем.
– Шляпу с голубем амортизируйте в смысле Саблукова. Он ведь вам нравился.
– Да, но ведь это не то.
– И слава Богу, что не то.
– А вы знаете, что этот негодяй теперь ухаживает за Кротовой. Она дура и урод и совершенно мне не нравится.
– А вам нужно, чтоб человек выбирал вам соперницу непременно по вашему вкусу?
– Ну, знаете, все-таки не так обидно, если изменил из-за красавицы. А то променял на урода.
– Напротив, гораздо обиднее, если из-за красавицы. С уродом нет-нет, да о вас и вспомнит с удовольствием, а с красавицей, если и вспомнит, так только вам же к невыгоде.
– Все-таки все это очень трудно пережить! – вздыхает покинутая.
– А что же, он был очень интересен, этот тип?
– Он? Интересен? Да вы смеетесь надо мной! Это такое ничтожество, такой негодяй! Плечи косые, ноги кривые, морали никакой, менталитета ни малейшего. Тощища с ним адовая. Сама не знаю, как я могла столько времени с ним вытерпеть. Четыре раза – подумайте только! – четыре раза обедала. Прямо дурман какой-то. И обеды длинные, в пять блюд с кофием. Ведь все это надо было вытерпеть. Молчит и ест. Жует, как овца – нижней челюстью из стороны в сторону. И при этом, заметьте, – никакой морали. Я даже не понимаю, почему я так страдаю от его измены. Ну добро бы красавец, темпераментный, светский. Такая дрянь, да еще, изволите ли видеть, охладел. Охладевшая дрянь. А я расстраиваюсь. И почему?