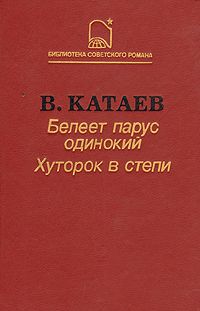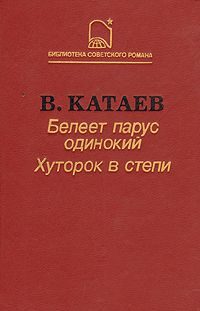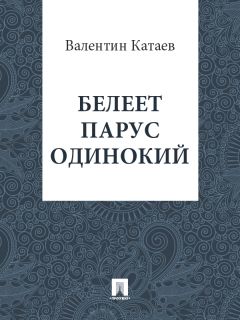– Па-аять, починять ведра, каструли! Па-ять, починять ведра, каструлии!
Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом:
– Груш, яблук, помадоррр! Груш, яблук, помадоррр!
Печальный старьевщик исполнял еврейские куплеты:
– Старые вещи, старые вещи! Старивэшшш… Старивэшшш…
Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской канцонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы «Нечада», и раздавался крикливый голос уличной певицы:
Ветерок чуть колышет листочки,
Где-то слышится трель со-ло-вья.
Ты вчера лишь гуляла в плато-чке,
А се-го-дня гу-ляешь в шел-ках.
Пой, ласточка, пой.
Сэр-це ус-па-кой…
– Углей, угле-е-ей! – запел русский тенор сейчас же после того, как шарманка ушла.
И концерт начался снова.
В то же время с улицы слышался стук дрожек, шум дачного поезда, военная музыка.
И вдруг среди всего этого гомона раздалось какое-то ужасно знакомое шипенье, что-то щелкнуло, завелось, и один за другим четко забили, как бы что-то отсчитывая, прозрачные пружинные звуки. Что это? Позвольте, но ведь это же часы! Те самые знаменитые столовые часы, которые, как гласила семейная легенда, папа выиграл на лотерее-аллегри, будучи еще женихом мамы.
Как Петя мог о них забыть! Ну да, конечно, это они! Они отсчитывали время. Они «били»! Но мальчик не успел сосчитать сколько. Во всяком случае, что-то много: не то десять, не то одиннадцать.
Боже мой! На даче Петя вставал в семь…
Он вскочил, поскорее оделся, умылся – в ванной! – и вышел в столовую, жмурясь от солнца, лежавшего на паркете горячими косяками.
– А, как не стыдно! – воскликнула тетя, качая головой и вместе с тем радостно улыбаясь так выросшему и так загоревшему племяннику. – Одиннадцать часов. Мы тебя нарочно не будили. Хотели посмотреть, до каких пор ты будешь валяться, деревенский лентюга. Ну, да ничего! С дороги можно. Скорей садись. Тебе с молоком или без? В стакан или в твою чашку?
Ах, совершенно верно! Как это он забыл? «Своя чашка»! Ну да, ведь у него была «своя чашка», фарфоровая, с незабудками и золотой надписью: «С днем ангела», прошлогодний подарок Дуни.
Позвольте, батюшки, наш самовар! Оказывается, он о нем тоже забыл. И бублики греются, повешенные на его ручки! И сахарница белого металла в форме груши, и щипчики в виде цапли!
Позвольте, а желудь звонка на шнурке под висячей лампой… Да и сама лампа: шар с дробью над белым колпаком!
Позвольте, а что это в руках у отца? Ба, газета! Вот уж, правду сказать, совсем забыл, что в природе существуют газеты! «Одесский листок» с дымящим паровозиком над расписанием поездов и дымящим пароходиком над расписанием пароходов. (И дама в корсете среди объявлений!) Э, э!.. «Нива»! «Задушевное слово»! Ого, сколько бандеролей накопилось за лето!
Одним словом, вокруг Пети оказалось такое множество старых-престарых новостей, что у него разбежались глаза.
Павлик же вскочил чуть свет и уже вполне освоился с новой старой обстановкой. Он уже давно напился молока и теперь запрягал Кудлатку в дилижанс, составленный из стульев.
Иногда он озабоченно пробегал по комнатам, трубя в трубу и сзывая воображаемых пассажиров.
Тут Петя вспомнил вчерашние события и даже вскочил из-за стола:
– Ой, тетечка! Я же вам вчера так и не успел рассказать! Ах, что только с нами было, вы себе не можете представить! Сейчас я вам расскажу, только ты, Павлик, пожалуйста, не перебивай…
– Да уж знаю, знаю.
Петя даже слегка побледнел:
– И про дилижанс знаете?
– Знаю, знаю.
– И про пароход?
– И про пароход.
– И как он прыгал прямо в море?
– Знаю все.
– Кто ж вам рассказал?
– Василий Петрович.
– Ну, папа! – в отчаянии закричал Петя и даже топнул обеими ногами. – Ну, кто тебя просил рассказывать, когда я лучше умею рассказывать, чем ты! Вот видишь, ты теперь мне все испортил!
Петя чуть не плакал. Он даже забыл, что он уже взрослый и завтра будет поступать в гимназию.
Стал хныкать:
– Тетечка, я вам лучше еще раз расскажу, у меня будет гораздо интереснее.
Но у тети вдруг покраснел нос, глаза наполнились слезами, и она, прижав пальцы к вискам, проговорила со страданием в голосе:
– Ради бога, ради бога, не надо! Ну, не могу я это еще раз слушать равнодушно. Как только у людей, которые называют себя христианами, хватает совести так мучить друг друга!
Она отвернулась, вытирая нос маленьким платочком с кружевами.
Петя испуганно взглянул на отца. Отец смотрел очень серьезно и очень неподвижно в окно. Мальчику показалось, что на его глазах тоже блестят слезы.
Петя ничего не понял, кроме того, что рассказать здесь вчерашнюю историю вряд ли удастся.
Он поскорее выпил чай и отправился во двор искать слушателей.
Дворник выслушал рассказ весьма равнодушно и заметил:
– Ну что ж, очень просто. Бывает и не такое.
А больше рассказывать было положительно некому. Нюся Коган, сын лавочника из этого же дома, как назло, поехал гостить к дяде на Куяльницкий лиман. Володька Дыбский куда-то перебрался. Прочие еще не возвращались с дач.
Гаврик передал через Дуню, что сегодня зайдет, но его все не было. Вот ему бы рассказать! Не пойти ли к Гаврику на берег?
Пете не разрешалось ходить одному на берег, но искушение было слишком велико.
Петя засунул руки в карманы, покрутился равнодушно под окнами, затем так же равнодушно, чтобы не возбуждать подозрений, вышел на улицу, погулял для виду возле дома, завернул за угол и бросился рысью к морю.
Но на середине переулка с теплыми морскими ваннами наткнулся на босого мальчика. Что-то знакомое… Кто это?
Позвольте, да ведь это же Гаврик!
21
Честное благородное слово
– О Гаврик!
– О Петька!
Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей.
Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки.
Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились.
Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам: выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера.
– Куда ты идешь?
– На море.
– А ты?
– На Ближние Мельницы, к братону.
– Зачем?
– Надо. Пойдешь?
– На Ближние Мельницы?
– А что же?
– Ближние Мельницы…
Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, «у черта на куличках».
Ближние Мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование Ближних Мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья.
Чаще всего понятие «Ближние Мельницы» сопутствовало чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили: «Вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставил ее без всяких средств. Она с Маразлиевской перебралась на Ближние Мельницы».
Оттуда не было возврата. Оттуда человек если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго – на час, не больше.
Говорили: «Вчера к нам с Ближних Мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоропостижно скончался муж, и просидела час – не больше. Ее трудно узнать. Тень…»
Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоропостижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашенные священником перед гробом, – о каких-то «селениях праведных, идеже упокояются», или что-то вроде этого.
Не было ни малейшего сомнения, что «селения праведных» суть не что иное, как именно Ближние Мельницы, где как-то потом «упокояются» родственники усопшего.
Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых «упокояются» тени вдов в черных платках и сирот в заплатанных платьицах.
Разумеется, пойти без спросу на Ближние Мельницы являлось поступком ужасным. Это было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухой дохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, все же он решился не сразу.
Минут десять его мучила совесть. Он колебался.
Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлебываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях.
Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась все-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко.
Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее.