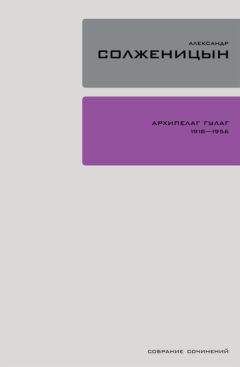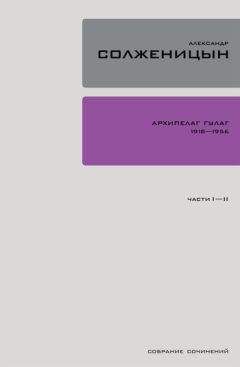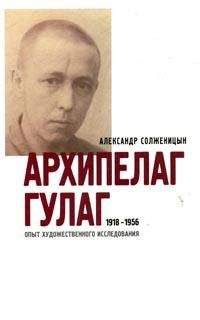– Кому пять суток? О ком это? – хмуро добивался он.
Еле-еле я убедил его (названьями Остероде и Бродницы), что это я вспоминаю чьё-то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу.
– А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать! – угрюмо предупредил он. – Ещё раз тут ляжешь – смотри-и!..
Сейчас об этом рассказываешь, – как будто незначительный случай. Но тогда для ничтожного раба, для меня это было огромное событие: я лишался лежать в стороне от шума и, попадись ещё раз тому же Татарину с другим стишком, – на меня вполне могли бы завести следственное дело и усилить слежку.
И бросить писать я уже не мог!..
В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк шестьдесят из пьесы («Пир победителей»), и листика этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочёркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу:
– Письмо? – спросил он.
(Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось бы «письмо», если бы его передали оперу!)
– Это – к самодеятельности, – обнаглел я. – Пьеску вспоминаю. Вот постановка будет – приходите.
Посмотрел-посмотрел парень на ту бумажку, на меня, сказал:
– Здоровый, а ду-урак!
И порвал мой листик надвое, начетверо, навосьмеро. Я испугался, что он бросит наземь, – ведь обрывки были ещё крупны, здесь, перед вахтой, они могли попасться и более бдительному начальнику, вон и сам начальник режима Мачеховский в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но, видно, приказ у них был – не сорить перед вахтой, чтобы самим же не убирать, и порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошёл сквозь ворота и поспешил бросить их в печку.
А в третий раз у меня ещё не сожжён был изрядный кусок поэмы, но, работая на постройке БУРа, я не мог удержаться и написал ещё «Каменщика». За зону мы тогда не выходили, и значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был «Каменщику» день третий, я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны, и думать забыл, что это – недалеко от того места, где недавно ушёл под проволоку Тэнно. А надзиратель, видимо, таился в засаде, он сразу взял меня за шиворот и в темноте повёл в БУР. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего «Каменщика» и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги.
А что у меня лежит ещё кусок поэмы – я совсем забыл. В БУРе меня обыскали и нашли, на счастье почти не криминальный, фронтовой кусок (из «Прусских ночей»).
Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочёл.
– Что это?
– Твардовский! – твёрдо ответил я. – Василий Тёркин.
(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)
– Твардо-овский! – с уважением кивнул сержант. – А тебе зачем?
– Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда.
Отобрали у меня оружие – половину бритвенного лезвия, а поэму отдали, и отпустили бы, и я бы ещё сбегал найти «Каменщика». Но за это время проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне, – надзиратель сам отвёл меня в барак и запер там.
Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего «Каменщика»? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор – в бригаде, кладущей БУР. А уж среди западных украинцев найти меня было нетрудно.
И так всё моё многолетнее писанье – уже сделанное, а пуще задуманное, – всё металось где-то по зоне или по степи безпомощным бумажным комочком. А я – молился. Когда нам плохо – мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо.
Утром по подъёму, в пять часов, захлёбываясь от ветра, я пошёл на то место. Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать! От того места ветер дул в сторону штабного барака, потом режимки (где тоже часто снуют надзиратели и много переплетенной проволоки), потом за зону – на улицу посёлка. Час до рассвета я бродил нагнувшись, всё зря. И уже исчаялся. А когда рассвело – комочек забелел мне в трёх шагах от того места, где я его бросил! – ветром покатило его вбок и застромило между лежащими досками.
Я до сих пор считаю это чудом.
Так я писал. Зимой – в обогревалке, весной и летом – на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне ещё не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлёпывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал её вкус, не слышал окружающих – всё лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по степи, – а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актёра.
Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под неё, в буран переходили по сугробу, – а для меня проволоки как не было, я всё время был в своём долгом далёком побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы.
Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой Тайне, эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага, чтобы в какие-то будущие годы, может быть уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу.
В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочёл первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом:
Я знаю сам, что это – не игра,
Что это – смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради.
Он тоже писал в лагере! – ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту:
Ведь только длинный ряд могил —
Моё воспоминанье,
Куда и я бы лёг нагим,
Когда б не обещанье
Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало…
Сколько было нас таких на Архипелаге? Я уверен: гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в памяти. А кто-то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто-то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осторожные руки.
И даже на островке Экибастуза – разве было нам узнать друг друга? приободрить? поддержать? Ведь мы по-волчьи прятались ото всех и, значит, друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких.
Неожиданно познакомился я, через баптистов, с духовным поэтом – Анатолием Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за сорок. Лицо его не казалось ничуть примечательным. Все его состриженные и сбритые волосы прорастали рыженькими, и брови были рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он читал мне свои очень длинные духовные поэмы (он писал их тут же, в лагере, как и я), я в который раз поразился, как обманчиво бывают скрыты в рядовом облике – нерядовые души.
Бывший безпризорник, воспитанник детдома, атеист, он в немецком плену добрался до религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал не только верующим человеком, но – философом и богословом! А так как именно «с тех пор» он и сидел непрерывно в тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, ещё раз открывая для себя уже и без него открытое, может быть блуждая, – ведь ни книг, ни советчиков не было у него «с тех пор». Сейчас он работал чернорабочим и землекопом, силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленями и трясущимися руками – но и днём и вечером в голове его кружились ямбы его поэм, все четырёхстопные с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я думаю, тысяч до двадцати он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним служебно: способ запомнить и способ передать другим.
Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением Дворца Природы. Он восклицал, наклоняясь над редкою травкой, незаконно проросшей в безплодной нашей зоне:
– Как прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы!
– А как же: «Не любите мира и того, что в мире»? (Сектанты часто повторяли это.)
Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примирять:
– Да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к Единению!
Теодицею, то есть оправдание, почему зло должно быть в мире, он формулировал так:
Дух Совершенства оттого
Несовершенство допускает —
Страданье душ, что без него
Блаженства цену не познают.
…………………
Суров закон, но только им
Для малых смертных достижим
Великий вечный мир.
Страдания Христа в человеческой плоти он дерзновенно объяснял не только необходимостью искупить людские грехи, но и желанием Бога перечувствовать земные страдания. Силин смело утверждал: