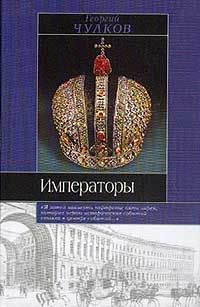Радищев! Каразин! Глупые! Они не понимают, что Александр и сам бы хотел как можно скорее уничтожить рабство, обеспечить конституционный порядок и самому уйти от этого ненавистного трона, но как это сделать? Разве он, государь, не делал попыток ускорить проведение в жизнь реформ? В 1804 году Александр снова возбудил вопрос о конституции. Новосильцев вызвал из Лифляндии какого-то барона Розенкампфа и поручил этому изумленному и растерявшемуся барону сочинить как можно скорее конституцию.
Проект был написан и разработан Новосильцевым и Чарторижским. Однако этот гомункулус так и остался в реторте. Александр заинтересовался другим человеком. Этот новый человек, которому надлежало спасать Россию, был М. М. Сперанский, служивший в генерал-прокурорской канцелярии и получивший потом пост статс-секретаря. Он поразил воображение Александра новизной своих воззрений и самым способом своего мышления. Этот тридцатилетний человек с лицом молочной белизны, с глазами как у «издыхающего теленка», по выражению одной мемуаристки, гипнотизировал императора своим тихим протяжным голосом. Когда он подавал царю белыми властными руками объемистые рукописи, монотонно и внушительно излагая их содержание, Александр верил, что этот Сперанский – тот самый человек, коему суждено наконец воплотить в жизнь идеальную государственную программу, предначертанную им, Александром.
Как хорошо, что Сперанский не похож на екатерининских сановников. Александру надоели эти вельможи с их ленивыми и скептическими улыбками, с их почтительной фамильярностью завсегдатаев дворцов. И в молодых своих друзьях Александр чувствовал ту же барственную небрежность, уместную в салонах, но вредную в государственных делах. Для реформ нужен был человек трезвый и деловой – не барич, не набалованный царедворец, не влюбленный в себя аристократ…
Александру нравилось то, что Сперанский семинарист. Про него рассказывали анекдот, будто он, будучи еще студентом, когда его пригласили по рекомендации митрополита Гавриила в качестве учителя князя А. Б. Куракина, совсем растерялся и не знал, как себя держать; когда за ним прислали четырехместную карету с гербами, запряженную цугом, лакеи будто бы е трудом усадили его в карету, так как он, не решаясь в нее сесть, пытался стать на запятки.
Но этот невоспитанный семинарист очень скоро перестал смущаться. Он женился на англичанке и завел у себя в доме английский порядок жизни. Вельможи смеялись над его клячей с обрезанным хвостом, на коей он ежедневно совершал прогулку в своем неизменном английском сюртуке, но смеяться приходилось втихомолку, ибо этот попович и демократ был горд и сумел поставить себя в положение независимое, и приходилось заискивать у этого плебея, тайно его презирая.
В 1803 году Сперанский подал Александру записку о государственной реформе. Что же рекомендовал царю этот демократ? Оказывается, он не посмел приступить к решительному ограничению автократии. Получился заколдованный круг: конституция немыслима при крепостном праве, а освобождение крестьян нельзя осуществить при самодержавном порядке. Сперанский предлагал, сохраняя временно абсолютные прерогативы монарха, создать такую систему учреждений, которая подготовила бы умы к будущей возможной реформе.
Александра пугала иногда горделивая уверенность. этого умнейшего и даровитейшего бюрократа, который полагал, что новые учреждения могут породить новых людей. Для Сперанского в первые годы его государственной деятельности личность сама по себе ничего не стоила. О ней судить он мог лишь постольку, поскольку она вмещалась в тот или другой параграф государственного кодекса.
Несмотря на свои англоманские замашки в быту, Сперанский в своих государственных планах вовсе не следовал идейным традициям Великобритании. Органическое развитие английской конституции было непонятно его большому, но семинарскому уму. В его молодые годы он покорно следовал отвлеченному рационализму французских правоведов и доктринеров. Он был поклонником сначала республиканской конституции Франции, а позднее кодекса Наполеона. Не надо забывать также, что он был масоном. Это окружало его в глазах Александра заманчивым ореолом. Тогда еще они оба верили в универсальное благо, приуготовленное человечеству тайными обществами. Странный, сухой и холодный мистицизм таился тогда в глубине их сердец, несмотря на всю рассудочную отвлеченность их идей о государстве, народе и власти. Им обоим пришлось впоследствии разочароваться в мнимой истине масонства. Но тогда еще они были масонами. Горделивая холодность Сперанского внушала иным подозрение, что этот бездушный человек во власти демонических: сил. Один мемуарист уверяет даже, что при общении со Сперанским он всегда обонял запах серы и в глазах его видел страшный синеватый огонек подземного мира. Но Александр не чувствовал серного запаха, беседуя с «гражданином» Сперанским. Император всегда мысленно называл его гражданином. Это выражение, знаменующее республиканские вольности, ласкало слух российского самодержца. Он завидовал графу Строганову, который имел дело с парижскими ситуайенами якобинской эпохи. Он был не прочь и сейчас увидеть такого парижанина во всей его республиканской красе. Несмотря на то, что в это время в Париже распоряжался всем Бонапарте, император считал Францию республикой. Поэтому, когда первый консул, обеспокоенный смертью Павла и возобновлением наших мирных отношений с Англией, послал к нам своего доверенного, адъютанта Дюрока, Александр ждал его с нетерпением. Наконец он увидит живого республиканца. Дюрок приехал. Император старался обворожить француза своей любезностью. Между прочим, он все время, думая сделать ему приятное, именовал его ситуайеном. Каково же было удивление императора, когда Дюрок довольно сухо заметил, что теперь в Париже не принято называть друг друга гражданами.
В 1801 году в Париже вокруг первого консула Бонапарте собрались люди, которые не очень ценили якобинский жаргон. Александр худо еще разбирался во французских делах. Что там происходило? Он верил, что Бонапарте – бескорыстный «сын революции» и что он самоотверженно «спасает Францию». Он знал, что Бонапарте защищал Конвент с оружием в руках, но он не знал, что того же 12 вандемьера, за пять часов до своего республиканского подвига, он говорил с присущим ему самоуверенным цинизмом: «Если бы секции поставили меня во главе, даю слово, через два часа мы были бы в Тюильри и прогнали бы всю сволочь Конвента».
Впрочем, дерзкий кондотьер вскоре открыл свои карты. Весной 1802 года Александр уже не сомневался, что Бонапарте стремится к неограниченной власти. Александр понял также, что тирания корсиканца угрожает всей Европе. «Завеса упала, – пишет он Лагарпу, – Бонапарте сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный и которую ему оставалось стяжать, – славы доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества и пребывая верным конституции, моей сам присягал, сложить через десять лет власть, которая была в его руках. Вместо того он предпочел подражать дворянам, нарушив вместе с тем конституцию своей страны. Отныне это знаменитейший на тиранов, каких мы находим в истории».
Однако Бонапарте многим внушил уверенность, что он вовсе не тиран, а воплощенная и торжествующая революция. По его приказу отряд гренадер арестовал на территории баденских владений последнего потомка Кондэ, герцога Энгиенского. Тогда же, в марте 1804 года, герцог был расстрелян в Венсенском замке. Этот факт был принят так называемым общественным мнением Европы как вызов тирана всем ревнителям законного порядка. Александр послал в Париж протестующую ноту, которая и была вручена нашим поверенным Талейрану. Русский кабинет очень скоро получил ответную ноту, в коей было сказано между прочим, что напрасно Россия вмешивается во внутренние дела Франции. Автор ноты обращает внимание русского правительства на то, что Франция не вмешивалась в русские дела, когда по проискам Англии был убит император Павел и убийцы остались безнаказанными. Этого страшного намека Александр никогда не мог простить Бонапарте.
Пятого мая из России был отозван французский посол, а на другой день Франция была объявлена империей. Генерал Бонапарте превратился в императора Наполеона.
Теперь Александру казались не столь важными внутренние дела России. Он не чувствовал никакой связи с многомиллионной мужицкой страной, которую он не знал вовсе. Питомец иностранцев и едва ли русский по крови, он не был равнодушен к судьбе крепостных крестьян лишь в качестве вольнодумца и сентиментального поклонника Руссо, но это отвлеченное сочувствие для него было «идеологией», а не вопросом жизни и смерти.
Иное дело – император Наполеон. Здесь ставилась мировая тема. Размеры грядущих событий соблазняли и императора Александра. Он мечтал о той роли, какую придется ему играть в Европе. Цветущие берега Рейна теперь не могли уже быть мирным убежищем для Александра Павловича Романова и его супруги Елизаветы Алексеевны. Но зато германский пейзаж казался Александру более подходящей и красивой декорацией для готовящейся трагедии, чем унылые поля и холмы чуждой ему России. Ему было памятно, кроме того, свидание с прусской королевской четой. Улыбки королевы Луизы, поощрявшей его рыцарское самолюбие, лесть германских дипломатов, подстрекательство Адама Чарторижского, мечтавшего о том, что кампания против Наполеона может привести к восстановлению Польши в границах 1772 года (с потерей для России Волыни и Подолии), – все это волновало молодого государя и неудержимо влекло к созданию коалиции против Наполеона.