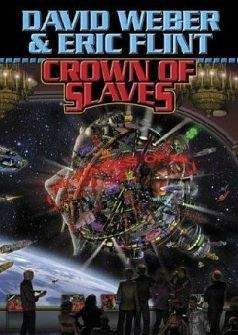Навалилась ночь, сырая и душная, тем более внезапная, что за спиной остался нескончаемый полярный день.
Бакены, как светлячки. Различались лишь тогда, когда электроход проходил мимо них. А вот совсем погасли. Пропали.
-- Батареи сели, -- хрипло пояснил капитан. -- Вот они и "тусклят"... Техника!
Ночь беззвездная. Туман сгустил темноту. Выходивший из рубки словно растворялся. Лишь картушка компаса желтовато подсвечивала скуластое озабоченное лицо бурята-рулевого.
-- Встанем? -- сказал капитан словно про себя. -- Вздохнув, решил: -Встанем!.. -- Но тут в дверь рубки постучали; не дожидаясь разрешения, в рубку ворвались двое матросов. Всклокоченные, у одного разбита губа. Дышат так, будто пароход по берегу догоняли.
-- Солдата порезали! -- прокричал один из них, с повязкой вахтенного.
Капитан повернулся к нему безмолвно.
-- Урки, -- тише продолжал вахтенный, переведя дух. -- Урки пырнули. Говорят, тот, у которого на груди надпись: "Аккорд еще звучит..."
-- Повязали его? -- деловито осведомился капитан.
-- Всех повязали! -- снова вскрикнул вахтенный, дотрагиваясь до разбитой губы. -- Четверых. В Красноярске разберутся, кто да что!
-- Водки нажрались, -- заключил капитан, ни к кому не обращаясь. -Сколько бумаг исписал: не продавать на пароходах!.. -- Обронил без интереса: -- Солдат-то что встрял?
-- Говорят, он из лагерной охраны. Эмвэдэшник. Его в карты проиграли!..
Заглянула Нина в незастегнутом, широченном, видно, не своем, форменном кителе, попросила послать в Красноярск телеграмму, чтоб санитарная машина ждала в порту, сказала, жгут нужен, бинты, спирт. Солдат еще при пульсе...
-- Э-эх! -- досадливо просипел кто-то за спиной матроса, кажется, боцман. -- Врежемся, сами сядем. На одну скамеечку...
Капитан пробасил в темноту:
-- Разбудить второго штурмана!
Я прислушивался к топоту бегущих и думал, поеживаясь, о том, что мне открылось. Вспомнилась невольно сырая смолистая пристань в Дудинке и, в туче комарья, девчушка в желтом праздничном платке и переломленная старуха, которая крестила отходивший пароход...
Владимир Питиримович прибежал тотчас, видно, еще не ложился. Молча встал у штурвала, вместо матроса-рулевого, которого отправили на нос корабля.
Где-то впереди послышались в сыром тумане два прерывистых гудка: "Стою в тумане!"
Владимир Питиримович кивнул матросу, тот выскочил из рубки, и над Енисеем прозвучали требовательно, гордо, почти торжествующе три протяжных: "Иду в тумане!.."
И так все время. Два нервных или унылых. Три властных в ответ. Проплывали один за другим тусклые бакены. Владимир Питиримович, подавшись вперед, чаще всего восклицал первым:
-- В-вижу белый!.. В-вижу красный!.. Вон, за темным мыском!..
Слева, на берегу, загорелись сильные, буравящие ночь огни. Похоже, прожектора.
-- Ну вот, теперь легче! -- вырвалось у меня.
-- Тяжелее! -- мрачно ответил Владимир Питиримович. В самом деле, теперь даже он не всегда мог различить блеклые огни бакенов, словно пригашенные прожекторами.
Далеко разносятся звуки сырой ночью. Где-то проревела сирена "скорой помощи", тоненький луч, перегнав нас, ускользал в сторону Красноярска. Звуки сирены удалялись, но слышались еще долго-долго...
-- Что тут? -- спросил я.
Капитан пробурчал неохотно:
-- Могу только сказать, что к этому берегу нельзя приставать...
Я вышел из рубки, чтобы вглядеться пристальнее. Внизу мерз кто-то, у поручней. Смотрел на прожектора, попыхивая цигаркой.
-- Что тут? -- заинтересованно спросил я.
-- А... девятка, малый, девятка... Кака "девятка"? Поработаешь полгода, жена на развод подаст... -- Помолчал, почмокал цигаркой. -Железногорск-город, слыхал? На карте нет, а весь Енисей знает. Говорят, поболе самого Красноярска. И в магазинах все есть. Ей-бо, не вру!.. Раньше, слыхал, тут зэки доживали. Кого по приговору в расход. А кого, может, без приговора... Смертники. Охрана, значит, менялась каждые пять минут, ну, а они... потом, не думай, лечили. По науке... Из нашей деревни тут парень служил на действительной, ныне тоже лечится... Бандит-от, который по приговору, он согласие давал в шахте работать, протянуть еще сколько-то... А солдата нешто спрашивают... Нет, теперь тут вольные. Бо-ольшие деньги платят. Вольному воля...
Прожектора еще долго маячили за кормой желтым пятном.
"Господи, Боже мой! -- повторял я в отчаянии. -- Господи, Боже мой!.. Мало в России, что ли, открыто существующего. Оказывается, есть еще и такое... несуществующее...
-- Продрог, малый? -- участливо спросили из темени. -- Зубы стучат-от.
Я побрел наверх. Владимир Питиримович, которого сменил у руля капитан, теперь был возле локатора. Он стоял, пригнувшись к нему, и час, и два, и три, и вдруг сказал:
-- У меня почему-то устали ноги...
А еще через час он выскочил из рубки, обежал вокруг, топая ногами по железу, потер, вернувшись, сомлевшую поясницу, присел, размахивая руками. И сызнова встал к локатору, который он называл "кино".
"Кино" было в голове Владимира Питиримовича. Он вел по памяти. Локатор лишь обозначал береговую кромку. А Владимир Питиримович как бы воочию видел это место при дневном свете, со всеми подводными камнями и водокрутами...
-- П-пять градусов влево!
Капитан просипел:
-- Питиримыч, больше не могу!
Владимир Питиримович метнулся к штурвалу; капитан кулем опустился на табуретку у стены.
Неслышно появилась в рубке тоненькая, стремительная Нина. Поставила возле штурмана чашку черного кофе; помедлив, возле капитана: не попросит ли и он кофе? -- исчезла в ночи.
Снизу, из пассажирских кают, доносились брань, шум, а откуда-то с кормы -- звуки гитары. Последняя ночь перед Красноярском...
Тускло светила картушка компаса. Чуть покачивался взад-вперед у штурвала Владимир Питиримович. Я видел, как чувствовал он корабль, -неотрывно, каждую секунду. Ступнями, плечами, пальцами, лежавшими на электроштурвале, -- и подумал, что такой рейс не менее труден, чем дальний полет, в грозу, в туманах... Казалось, Владимир Питиримович в свои двадцать пять лет плавал по Енисею не четыре года, а все сорок...
"Прошел ты свой Казачинский порог, прошел..."
...В Красноярске мне достался авиабилет в Москву лишь на вечерний рейс, и, пристроив в аэропорту вещи, я вернулся на пароход, с которым меня столько связывало... Вахтенный матрос улыбнулся мне, как старому знакомому.
Едва сойдя с трапа, я услышал заикающийся тенорок, который различил бы в любом гомоне.
-- ...Е-если так, уб-бирайся!.. -- затем добавил словцо, которым подвыпившие матросы, случается, крестят своих неверных возлюбленных.
Однако Владимир Питиримович был трезв, как стеклышко. Его зоркие голубые глаза побелели от гнева и стали словно бы блеклыми, слепыми; казалось, на них бельма. Он умолк, заметив меня; прошло еще немало времени, пока мы разговорились.
-- ...Хочет сойти на берег, -- с возмущением объяснил он. -- Да жена! Пробыть рейс в городе... Двенадцать дней! Ага!.. В прошлом году полнавигации не плавала, болела, то, се... И теперь начинается. -- Он замолк, наморщил и нос, и лоб, как всегда, когда мучительно думал. Но, похоже, ничего не придумал: -- Вышла за моряка, так неси свой крест!.. Я же иду в каждый рейс!.. И ведь в каждом рейсе такая карусель. Измотаешься, как черт. Одичаешь...
К самому утру штурман и в самом деле едва держался на ногах. И... светился гордостью. Еще бы! Электрохода в Красноярске не ждали. Даже причала не очистили от случайных судов. Туман непроглядный. Он пришел минута в минуту. Тюремная машина, правда, была на месте. На всякий случай. Санитарную пришлось ждать...
Владимир Питиримович руководил выгрузкой, даже слов не произносил, достаточно было жеста...
А ее рейс? Отсырелые счета кастелянши, мятые простыни, учет, все ли пассажиры заплатили по рублю за постель или опять надо добавлять свои... Да вот, аптечкой ведает...
И я снова увидел, как наяву, ночь без звезд. Туман. И темный силуэт штурмана, который слился с судном. Ощущал его, как свое тело.
И так же, как судно, видел он, ощущал, в кромешной тьме, по памяти, Енисей. Чутко, со всеми его опасными отмелями, острыми камнями, водоворотами...
Что ж это?.. Душевная слепота? Домострой? Мужской эгоизм?..
Любовь, как стальной буксирный трос, в момент натяжения оборвись хоть одна нитка и...
Мое молчание насторожило Владимира Питиримовича, и он вскричал мальчишеским фальцетом:
-- Вы думаете, отпустить боюсь?! Держу у ноги, как лайку? Ага?.. Оздоровиться ей надо, пока не поздно! Второй год плаваем -- ребятенка нет!.. Засохнет она -- в обнимку со своими Цезарями Кай... как их там?!.
Помолчав и наморщив лоб, он понесся вдруг, точно его подхватило енисейскими водокрутами:
-- На танцульки ей захотелось! С мальчиками! Ага? Отец жену на плоты брал, месяцами плавал, и ничего... -- Он шумел долго, глядя на меня округленными глазами, мол, ну, ревнивый я, как дьявол ревнивый, ну и что?!
Если бы он не был так многословен, пожалуй, я бы ему поверил. А он бурлил и бурлил...