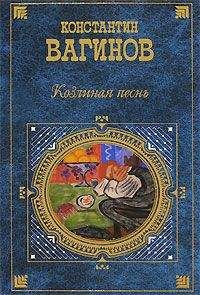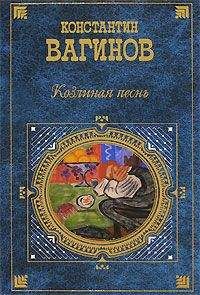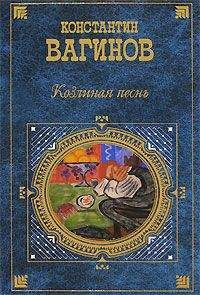Неизвестный поэт в семье винтящего старичка наблюдал по средам и воскресеньям за игрою. Поэт чувствовал себя теперь только Агафоновым.
Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды. Какая-то неуловимая мягкость была в его движениях. На нем великолепно сидел жакет, шитый в первый год революции. Граф великолепно говорил по-французски. Рядом с ним сидела его супруга, похожая на маркизу в белоснежном высоком парике, вся в черном, и говорила тоже по-французски. Дальше сидел бывший пограничник с лихими усами, с явными армейскими движениями, затем бухгалтер со сказочными доходами. Никогда здесь не говорили о современности. Разговор всегда шел или о дворе, или о гвардии и армии, или о придворных торжествах в Петергофе при приезде французского президента, или об ухищрениях контрабандистов.
Лысеющий молодой человек пил чай со старичками. Разговор все время возвращался к концу XIX века и к началу XX. Старичок, сюсюкая, рассказав анекдот, начал засыпать, убаюканный воспоминаниями, и даже похрапывать. Восьмидесятилетняя дистенге посмотрела на часы.
Все встали из-за стола.
Наступила тишина.
Вычищенные гущей и песком, на кухне блестели Иоганхены, Вильгельмхены, Гретхены – кухонная посуда на полках.
Утром бывший неизвестный поэт, высунувшись из окна, позвал татарина, ходившего по двору с поднятым лицом и кричавшего.
– Вот что, друг, – сказал он, когда татарин с пустым мешком под мышкой появился в комнате, – у меня накопилось много дряни, хочешь вазочку, пепельницу, книги, вот горсточка старинных монет.
Татарин хмуро ходил по запущенной комнате, где стояла вечно не прибранная постель, где книги валялись на полу, где денежки Василия Темного лежали на тарелочке вместе с раскатавшимся куском мыла, а стекла были до того мутны, что еле-еле пропускали пыльный луч.
Татарин опытной рукой, подойдя к постели, нащупал одеяло, подошел к столику, постучал, посмотрел, не проели ли столик черви.
– Не годится, – сказал он. – Пальто есть? Брюки есть? Пальто, брюки куплю.
– Да что ты, я тебе уже все давно продал! – рассердился бывший неизвестный поэт.
– Зачем неправда говоришь, в шкапу что? – Татарин, подойдя, распахнул дверцы.
– К чему тебе? потом новые купишь! – Он стал рассматривать брюки.
– Да вот ковер в углу, – согласился хозяин комнаты.
– Кровать продаешь? – спросил татарин.
Походив вечером по комнате, бывший поэт отправился в достопримечательнейшее здание.
Он поднялся по лестнице. Согнувшись, уплатил мзду.
Против лысого молодого, румяного крупье сидел Асфоделиев и проигрывал аванс, полученный утром в редакции.
– Ах, Агафонов, – протянул ему руку Асфоделиев, – где вы пропадаете?
– Я занят.
– Чем же вы заняты? – удивился Асфоделиев.
– Не будем об этом говорить, – уклонился лысеющий молодой человек, – я пришел сюда поразвлечься, а не говорить о занятиях.
Асфоделиев посмотрел на него. «Нервничает», – подумал он.
– Прекрасна жизнь, – начал философствовать Асфоделиев. – Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы, – и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения, – слышите, музыка!
Он подошел с Агафоновым к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка.
– Взгляните на лица, дышащие азартом, посмотрите, как горят у них глаза, как скребут игроки ногтями сукно.
Но всего этого бывший поэт не видел. Он видел, что крупье опускают с каждого круга десять процентов в разрез стола на нужды народного просвещения, а всякую подачку прячут в жилетный карман, говоря: «мерси». Что все они лысы, упитанны, одеты по последней моде, что растратчики и взяточники толпятся у столов и проигрывают деньги на нужды народного просвещения, что они, присвоив деньги в одном ведомстве, добровольно отдают их другому.
Здесь не было ни дам с крупными серьгами, ни играющих бедер созданий, здесь игра не соединялась с сладострастием; правда, некоторые игроки волновались, все же, несмотря ни на что, они надеялись выиграть.
– Вы романтик, – обернулся бывший неизвестный поэт к Асфоделиеву, – вы скверный, большой ребенок, неужели вы не чувствуете огромной серости мира. Я прихожу сюда, потому что мне нечего делать, потому что после того, как я не сошел с ума, я чувствую себя кукишем.
– А вы пытались сойти с ума? Какой вы романтик! – уязвил бывшего поэта Асфоделиев.
– Конечно, я не пытался, – пошел молодой человек на попятную, – я это к слову сказал. Что вы, в самом деле считаете меня дураком?
– Бросьте, – сказал Асфоделиев. – Никто так не уважает вас, как я, и никто не любит так ваших писаний. Человеку нужна мечта, вы даете мечту – чего же боле?
– Никакой никогда мечты я не давал, – отвечал Агафонов.
Уже несколько часов сидели прибывшие в ресторане при клубе. Уже было выпито около дюжины пива и отдельные рюмочки скверного коньяку, и уже приступили к красному вину. И на эстраде появился хор цыганок и запел свои старые песни, и ходил цыган с гитарой и, топая, аккомпанировал, и отделились от толпы две цыганки в своих пестрых платьях, обутые в красные туфельки, и началось трепетание.
– Ерунда, какая ерунда, – пробормотал Агафонов и прошел в игорный зал, сел на освободившееся место.
Две цирцеи встали позади него.
Чувствуя, что на его плечи облокачиваются, Агафонов повернул голову.
– Не мешайте, – оттолкнул он, – прошу вас!
Те, вздернув носики, отошли.
Агафонову стало неприятно: «Раньше я совсем иначе относился к ним».
К вставшему крупье подлетели два игрока и стали извиняться и упрашивать дать в долг. Тот отходил, отказывая, они следовали за ним по пятам. Асфоделиев и Агафонов уходили. За ними шли две цирцеи, затем цирцеи отстали.
– Прелестно, – говорил Асфоделиев, – прелестно…
– Вот что, – прервал Агафонов Асфоделиева, – не смогу ли я у вас переночевать?
В кабинете у Асфоделиева горела фарфоровая люстра.
Огромный, александровского времени, письменный стол, с канделябрами в виде сфинксов, стоял против дверей. На нем до середины высоты комнаты пирамидами возвышались недавно вышедшие книги, книжки и книжечки, все аккуратно разрезанные и снабженные бумажными закладками. На шкафах красного дерева, недавно доставленных, стоял Гете на немецком языке и Пушкин в Брокгаузовском издании. На столах лежали иллюстрированные «Евгений Онегин» и «Горе от ума» в издании Голике и Вильборг.
– Извините, – сказал Асфоделиев, – моя жена спит.
Поставил бутылку водки и огурцы.
До глубокой ночи Агафонов произносил свои стихи.
– Как это глупо, – прервал он себя, – ничего я не слышал.
В три часа ночи он встал:
– Какое идиотство считать вино средством познания.
Он увидел себя блуждающим:
– Что я для города и что он для меня?
– Утро! – подошел он к окну. Сел на диван и раскрыл рот.
Лучи чуть теплого солнца осветили заметную лысину. Агафонов лежал на диване. Одна нога в фиолетовом носке высовывалась из-под одеяла.
Лучи спустились и осветили плечи, затем чуть-чуть вспыхнула рюмка у пустой бутылки.
Агафонов проснулся – его трогали за плечо.
– Извините, милый мой, – сказал Асфоделиев. – Мне привезли шкаф маркетри.
За Асфоделиевым стоял шкаф; два носильщика курили махорку.
Вечером Агафонов читал в малознакомом ему семействе.
Как всегда в таких случаях, был приготовлен чай, различные бутерброды, печенье, конфеты и варенье, но, как почти всегда, отсутствовало вино.
Агафонов, как почти всегда, опоздал и явился, когда его уже не ждали.
За чайным столом он стал читать стихи.
В разноцветящем полумраке
…………………………………………
Все время ощущаю связь
С звездой, сияющей высоко,
И, может быть, в последний раз.
Но нет, но нет, слова солгали,
Ведь умерла она давно.
Но как любовник, не внимаю
И жду – воспрянет предо мной.
Друг, отойди, еще мгновенье,
Дай мне взглянуть на лоб златой,
На тонко вспененные плечи,
На подбородок кружевной.
Пусть, пусть Психея не взлетает,
Я все же чувствую ее…
И вижу, вижу – выползает
И предлагает помело.
И мы летим над бывшим градом
Над лебединою Невой,
Над поредевшим Летним садом,
Над фабрикой с большой трубой.
– Скажите, – обратилась к нему девушка, – имеют ваши стихи какой-либо смысл или никакого не имеют?
– Никакого, – ответил Агафонов.
– Я полагаю, – заметил кооператор, – что бессмысленных стихов писать не стоит.
После чая молодые люди и барышни сели в уголок и стали рассказывать друг другу анекдоты. Девушка с волосами, обесцвеченными перекисью водорода, первая начала.
– Один глупый молодой человек любил ездить верхом. Мы жили тогда на даче, на Лахте. Он жил в городе и ездил в манеже и по островам. Однажды, войдя на веранду, где мы пили чай, он, вместо того чтобы поздороваться, сияя проговорил: «Все кобылы, на которых я езжу, забеременели». Мы прыснули от восторга и побежали поговорить об его глупости, но наш отец нашелся. «А что, – сказал он, – как ты думаешь, жеребята будут похожи на тебя?»