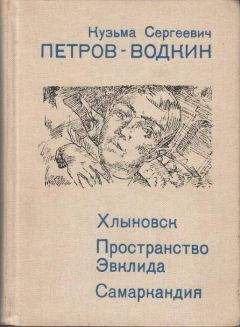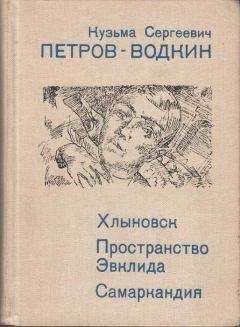Махалов ездил в Москву, где разрабатывался этот его новый проект, организовывал строительные силы, кипел в работе, и вот в это время его постигла неудача.
Начал ли уже бессилеть Махалов, или окружающая косность привела его к неверию в себя и свои силы, но за этой неудачей последовал в скором времени и конец его жизни. Случилось то, что его проект был перехвачен еще более быстрым, чем он сам, предпринимателем: в Хлыновске разнесся слух, что в соседнем городе начался постройкой цементный завод. Махалов знал, что в данной экономической обстановке два конкурирующих предприятия существовать не сумеют, а когда, ошеломленный и взбешенный, он помчался в Москву и там узнал, что тот же инженер, делавший ему проект завода, вошел в сношение с акционерной компанией и осуществляет целую систему таких заводов в соседнем с Хлыновском городе, — после этого у Махалова опустились руки; но уже окончательное отчаяние испытал он, когда стало известно, что один из главных акционеров-конкурентов был Соловьишин — дядя его собственной жены.
Махалов дрогнул и как бы сломился весь. От пьянства и беспутства засверлила его болезнь, от которой он, очевидно, и умер.
Но и умер Махалов на посту: в свою последнюю поездку по хлопотам о железной дороге. Где-то за Кузнецком на постоялый двор доставили его тело уже окоченевшим.
В городе сильно верили, что только смерть их дельца помешала проведению линии железной дороги через Хлыновск. Последние перед смертью годы были адом семейной жизни Махаловых. Старик пил, ускоряя свою болезнь, ревновал жену к своему двоюродному брату, устраивал на этой почве домашние скандалы вплоть до избиения супруги. Нередко Прасковья Ильинична с маленьким Митей на руках среди ночи принуждена была убегать из дому и скрываться у соседей. А муж, обезумевший от вина и болезни, в ночном белье выскакивал из комнат, подымал на ноги дворню для обысков и для погони.
Здесь я позволю себе сделать отступление для характеристики хлыновских нравов.
Истязание жен было обычным явлением у нас в городе. Настолько это входило в ночные звуки городка, что со мной произошло следующее недоразумение.
В мою бытность в Самарканде возвращался я однажды с Зеравшана в город ночью. Я спускался по склонам высот Чупан-аты, когда Самарканд уже предугадывался в темноте котловины, окруженный кишлаками.
В это время снизу, из кишлака, донесся ко мне женский вопль. Через минуту ему ответил другой. Это были надрывающие сердце тоской вопли.
Меня ударила в голову мысль: вот и таджики бьют своих жен.
И что-то щемящее, напомнившее юность, наполнило мою душу. И только тогда рассеялось мое недоразумение, когда я разглядел двойные светящиеся точки в местах, где возникали вопли: это выли шакалы.
Поразительно похоже на женские голоса выли они на осеренную еще не улегшейся дневной пылью луну. У шакала слышалось: удастся ли ему этой ночью усладить лязгающие голодом челюсти и поживиться падалью либо отбросами человека?
Выдержит ли он смертную борьбу с волкодавами кишлаков, чтоб овладеть добычей?
Братья-сестры, шакалы, вместе, скопом, чтоб не было страшно!
В вое слышался тяжелый страх загнанного хищника, столь беспросветный страх, что уже смерть — и та кажется овеянной радостью.
Нечто подобное бывало и в Хлыновске.
Выйдешь душной июльской ночью на убогую улицу. Расшатанные, как от усталости, домики серебрятся огрызком месяца. Бархатный и необъятный свод неба придавил мой городишко.
Мысли юношеские о победах. О том, как развернется полная жизнь, когда вдохновенной игрой станет труд и человек человеку понесет радости… Когда настанет Новый План человеческого существования… И я, конечно, все сделаю, для моих сил возможное, чтоб быть передовым борцом за счастье человека…
Небесный свод делается для меня проницаемым, уже ритмуется кровь с полетом земли.
Все возможно. Нет границ осуществления моей мечты.
Спящий городок делается мне милым с его обиходным трудом и отдыхом и временными невзгодами…
И вот в это время раздастся вдали и понесется над крышами вой женщины.
Если бы это был не человеческий голос!
Если бы это была не мать, не сестра, не дочь!..
К снова захлопнет сверху бархатным сводом, задушит зноем июля, и некуда деться и нечем помочь, и сам внутри начинаешь скулить, зыть от жалости и страха перед кошмарами жизни.
Прасковья Ильинична не растерялась, оставшись вдовой.
— У нас, баб, волос длинный, да ум короткий, — говорила она охаживавшим ее дельцам. — Так вот я тебе, батюшка, и скажу коротко: о твоей выгоде мне хлопотать расчету нет, а моя выгода требует следующего…
Она отлично ликвидировала предприятия, сохранив целиком только хлебное дело, и стала жить для сына.
Болезнь ли покойного отца отразилась на мальчике, но он рос хилым, что, может быть, и помешало ему получить более прочное, чем то, которое он имел, образование.
Дмитрий Семенович ничего не унаследовал от отца, кроме богатства. Он вяло, нерешительно вел из-под рук матери дела. Был скуп нехорошей, не коммерческой скупостью, и оживал, кажется, только на охоте да в игре в карты.
На этой почве бывали нередко у него ссоры с матерью.
Живая, решительная старуха хотела бы, казалось, перелить в жилы Митеньки свою собственную кровь, но сын молчал долго на все ее назидания и в первую подлиннее паузу уходил в свой кабинет. Оттуда он давал распоряжение о запряжке лошадей и уезжал за Волгу и пропадал там по многу дней. Иногда присылал оттуда кучера за охотничьими принадлежностями и продолжал там же, в заволжских займищах, гоняться за волками и лисами и дуться в карты с помещиками.
Не считая неразрезанных книг и журналов, которые я украдкой от хозяина вскрывал, — другого участия в моем росте молодой Махалов не принимал.
Теперь задержу несколько мое внимание на вызове в память самого дома.
Дом-усадьба Махаловых выходил на три улицы Огромный сад обнимал сзади и с боков деревянный, колоннованный, с мезонином и антресолями дом, выходивший фасадом к Махаловскому бульвару.
Густые, высокие сосны, росшие по фасаду дома, отделяли его от улицы.
Дубовые, в каменных столбах ворота вели на мощенный булыжниками двор с раскинувшимися по нему кладовыми, погребами и службами.
Против дворового фасада дома был двухэтажный каменный флигель с хозяйскою и людской кухнями в нижнем этаже… Посреди двора помещалась «приказчичья» кухня в деревянном шатровом доме.
Замыкая передний двор, шли поперек его каретник, конюшни и сеновалы, отделявшие своими кирпичными массивами этот жилой двор от заднего, выходившего на противоположную улицу воротами для подвоза хлеба.
Здесь были амбары и закрома для пересыпки зерна.
Для входа в хозяйский дом редко пользовались уличным парадным ходом, — главный же вход был со двора с открытой террасы.
Широкая одностворчатая дверь на блоке, обитая черной клеенкой, вела в низкую полуэтажную прихожую с одним окном сбоку, выходящим на террасу.
Передняя была перегорожена большим платяным шкапом, за которым у стены помещалась кровать моей матери, а между кроватью и шкапом на полу стлалась на ночь моя постель.
По другую сторону шкапа жил Рапо, старая охотничья собака. Вместе с холодом при открывавшейся двери низом шкапа приходили ко мне звуки храпа, чесания и блохи.
С Рапо мы были дружны — впоследствии он явится моей первой моделью при начале моей работы с натуры.
У наружной стены, у окна, стоял стол, за которым пройдут годы моих чтений, писаний и начало рисования.
Из прихожей налево вела дверь в кабинет Махалова.
Этот кабинет с ореховой отделкой сразу говорил о неуюте хозяина, в особенности письменный стол с разбросанной по нему дребеденью не был сжит с потребностями и занятиями его обитателя.
Изрешеченные пулями монтекристо стены, охотничьи принадлежности и неразрезанные журналы, валявшиеся вперемежку на неудобной мебели, дополняли картину неуюта и безвкусия, а как недоразумение приткнутая к стене стояла фисгармония — полный очарования для меня инструмент. Дмитрий Семеныч очень редко играл на нем одним пальцем одну и ту же мелодию из Глинки: «Страха не страшусь, смерти не боюсь» — и подпевал при этом фальцетом и без слуха.
Из прихожей прямо вела дверь в длинный коридор-буфетную. Налево были столовая и гостиная. Направо коридор приводил в комнаты и спальни старухи и ее сына, выходившие в сад.
Комнаты дома резко отличались от орехового кабинета сына: оклеенные матовыми однотонными обоями с тропическими растениями, отражавшимися в блестящем паркете пола, они давали впечатление простой и вместе с тем торжественной обстановки, а чистота, чувствуемая на каждом завитке мебели и на каждом листе растения, говорила о любовно устроенном жилище. Это был вкус матери.