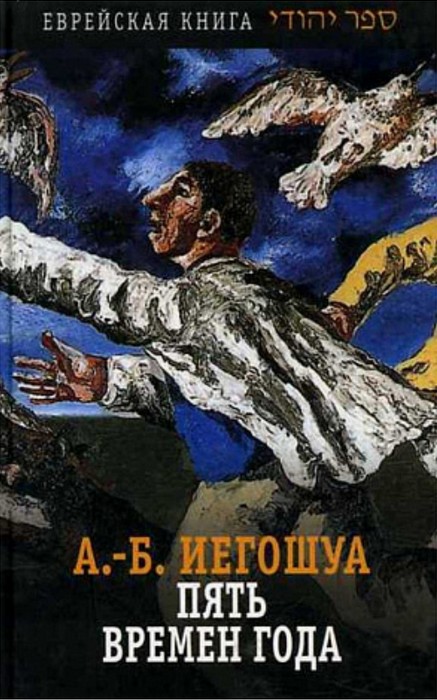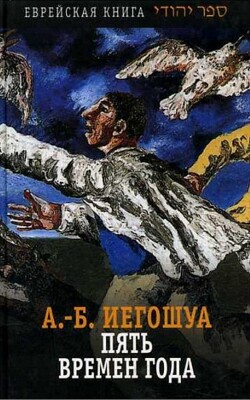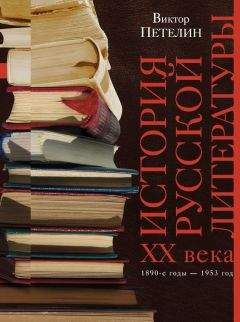себя с отцом особенно замкнуто и отчужденно. Потом он мыл посуду, закрывал окна и жалюзи, повязывал галстук — он так и не научился подбирать его в цвет пиджаку — и отправлялся в министерство, где начальство, пытаясь вывести своего работника из оцепенения и подстегнуть его работу, практически замершую за последний год болезни жены, бомбардировало его все новыми папками дел, требовавших проверки, и дергало вызовами на всевозможные консультации, особенно по вопросам бюджета местных муниципалитетов на севере страны, которые, как всегда, были на грани финансового краха и взывали о помощи.
В десять он шел в буфет выпить кофе, высматривал свою юридическую советницу, иногда и встречал ее там и тогда перебрасывался с ней парой-другой ничего не значащих фраз, а то и ограничивался приветливой улыбкой на лестнице. Он знал, что она ждет его знака, это его мужской долг, и он не намерен был от него увиливать, но все еще опасался сделать поспешный или неточный шаг, который мог бы вызвать бесповоротное разочарование, и поэтому выжидал, пока ощутит в себе нужную уверенность. Он подумывал о пятом или шестом концерте абонемента, ближе к началу весны, даже отметил на календаре даты — он пригласит ее на свободное место рядом с собой, это будет хорошее начало, нет сомнений, что она любит хорошую музыку. А пока он продолжал разглядывать ее при встречах в коридоре, изучал ее наряды, которые, кстати, нравились ему все больше, — у нее был какой-то особый вкус, и он уже начал различать его вариации. Ничего страшного, если она немного подождет, думал он; уж если она не смогла найти себе мужчину за все три года, прошедшие со смерти мужа, то наверняка может потерпеть еще немного. Ведь не ждала же она именно его, Молхо! Правда, он официально сообщил на работу о болезни жены уже несколько лет назад и тогда же попросил о свободном расписании, которое позволило бы ему выполнять все свои обязанности по уходу за больной, так что с юридической советницей вполне могли консультироваться по поводу этой просьбы, — но возможно ли, что она уже с тех пор заинтересовалась им, даже не будучи уверенной, что болезнь неизлечима? Его преданность жене тоже была известна многим. А сейчас — что он может предложить этой женщине сейчас? Он казался себе омертвевшим деревом, покрытым плотной ороговевшей корой, а в ней было что-то очень живое, энергичное — гладкие волосы туго затянуты на затылке, карие глаза прищурены почти по-китайски, взгляд, как у опытной, умной охотничьей собаки или смышленой белки. Иногда ему вдруг снова приходило в голову, что в ней самой, возможно, таится какая-то болезнь и она тоже хотела бы умереть дома, а он нужен ей просто для того, чтобы за ней ухаживать. Эта мысль пугала его и в то же время почему-то слегка забавляла. Ее покойный муж — хозяин не то страхового, не то туристического агентства — скончался от неожиданного приступа, и означало, что ее опыт смерти был не столь велик, смерть не потребовала от нее особых усилий и ничему не успела ее научить, потому-то она и была такой жизнерадостной и легкой — он уже распознавал в ней эту скрытую жизнерадостность, хотя они и не так часто встречались, как распознавал уже и запах ее духов, тонкий и какой-то особенный. Болезнь жены обострила его обоняние.
Он подождет. Ему не к спеху. Это мужское преимущество — тянуть время, по крайней мере вначале, думал он не без удовольствия, а тем временем гулял вечерами по центру Кармеля, а однажды даже отпросился на работе, уложил чемодан и отправился в Иерусалим, чтобы свозить мать на могилу отца в десятую годовщину его смерти, и там, среди дряхлых, покалеченных временем надгробий старого кладбища, стоял с несколькими своими родственниками, сефардами, старожилами города, которые мягко и осторожно пожимали ему руку и утешали в связи со смертью жены, — он уже добрых полгода не был в Иерусалиме, и теперь город его молодости показался ему слишком морозным и чересчур религиозным. Отвезя мать домой, он сделал несколько мелких дел в городе и вернулся к ней как раз вовремя, чтобы поспеть к большому обеду, который она приготовила специально для него — вкусные блюда, но буквально истекающие жиром, — а потом, сняв обувь и подобрав под себя босые ноги, сидел в блаженной дремоте на диване, в своем доме, в глубине невзрачного городского квартала, вяло прислушиваясь к потоку материнских вопросов: что он себе думает? почему он ничего не предпринимает? — и, прекрасно зная, о чем она спрашивает, делал вид, что не понимает: «О чем ты? о чем?» — «О твоем будущем», — сказала мать; она сидела в кресле, большая, накрашенная, как огромный павлин, и всматривалась в него так внимательно, как будто видела впервые. «Я еще ничего не думал. Я пуст», — ответил он наконец расслабленно и сонно. С тех пор как в его дом вселилась болезнь, мать стала бывать у них очень редко, смерть пугала ее, и, появляясь, вела себя очень скованно, не вмешиваясь ни во что. «Ты не должен торопиться, — сказала она, — осмотрись, конечно, но помни, ты уже не мальчик, не погружайся в спячку». Через балконную дверь он видел солнце, истекавшее каким-то черным сиянием, словно это было солнце конца света. В доме было холодно, отопления здесь не было. Мать тянула свое: «Может, тебе лучше вернуться в Иерусалим, тут у тебя есть знакомые, они найдут тебе какую-нибудь подходящую женщину, из таких, к которым ты привык. Может быть, даже какую-нибудь из твоих бывших одноклассниц по гимназии. Среди них наверняка есть уже пара-другая вдов или разведенок». От неожиданности он даже открыл глаза — матери всегда удавалось удивить его. Он ласково посмотрел на нее, медленно взял из стоящего перед ним блюда горсть орешков и арахиса и так же медленно стал их жевать — мысль о девочках из его класса, с которыми он учился тридцать пять лет назад, показалась ему весьма оригинальной, ему вдруг представился его класс, с четырьмя рядами столов, а за ними — молодые девушки в черном. «Где мне их искать?» — вяло возразил он, слегка даже развеселившись. «Если бы ты вернулся сюда, ты бы сумел найти всех своих бывших друзей, они ведь не покинули Иерусалим, как ты. Попроси, чтобы тебя перевели». — «Я не могу, — едва слышно прошептал он. — Я не могу оставить ее». — «Кого?» — удивленно спросила мать. «Тещу. Это было бы нечестно, оставить ее вот