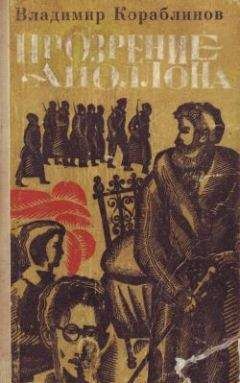– Родной! – воскликнул голенастый верзила с медно-красными патлами на костлявой, похожей на череп голове. – Родной мой, да ведь вы-то именно как раз нам и нужны позарез! Садитесь, садитесь, дорогой товарищ Лебрен, дело в следующем…
Спустя двадцать минут из роскошного, с колоннами и кариатидами особняка табачного фабриканта Филина, где помещался губкультпросвет, вышел человек в легкомысленном клетчатом пальтишке, во внутреннем кармане которого, уютно свернувшись, покоилась надежная бумага с печатью и угловатым штампом, удостоверяющая, что «податель сего гр-н Лебрен Р. Г. действительно является директором и главным режиссером театральной студии при Крутогорском губкультпросвете», и предписывающая всем советским организациям и учреждениям оказывать всемерное содействие… и прочее и прочее.
Так Лебрен стал жителем древнего русского города Крутогорска. Он снял комнату на тихой, «аристократической» Венецианской улице, в доме полоумной бывшей генеральши, «Кошачьей богадельни», как ее окрестили горожане.
И стал владычествовать в арутюновском дворце.
Во всех тридцати девяти церквах оглушительно, весело трезвонили. Был апрель, было погожее синее небо, широкий разлив реки, воробьиные скандалы, было карнавальное шествие с факелами и пронзительной песнью:
Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов!
Была весна тысяча девятьсот девятнадцатого.
У подъезда арутюновского дворца каменные декадентские львы разевали пасти, ревели оскорбленно, и грозно: художник Вадим Берендеев раскрасил царственных зверей под зебр; ошельмованные, они выглядели, как матрацы. Вадим мазал малярным рушником, вокруг толпились зеваки, ржали, спрашивали: для чего это? Он загадочно молчал, посмеивался.
Затем над полосатыми львами на весеннем ветерке затрепетали аршинные буквы плаката:
СКОРО!!!
Еще денек-другой – и новый плакат:
СМОТРИТЕ!!!!
На следующее утро:
СКОМОРОШИНУ!!!!!!
И тут по всему фронтону среди известных городу четырех стихий рассыпались препотешные, вырезанные из фанеры и ярко раскрашенные фигурки: звездочет в островерхом колпаке, летящий вверх тормашками буржуй во фраке и цилиндре, бывший царь Николай Второй с винным шкаликом в руке вместо скипетра, поп верхом на мужике, какая-то восточного вида бесстыдница в шароварах и с заголенным животом… А над всей этой чудной каруселью, на самом верху – посаженный на длинный шест жестяной петушок вертелся туда-сюда, смотря по направлению ветра.
Наконец появилась афиша.
ТЕАТР ВОЛЬНЫХ СКОМОРОХОВ
22 апреля 1919 г.
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ
МАСТЕРАМИ
РУДОЛЬФОМ ЛЕБРЕНОМ,
ВАДИМОМ БЕРЕНДЕЕВЫМ,
ПУЛЬХЕРИЕЙ КАРИАТИДИ
и
ПОДМАСТЕРЬЯМИ
МИХАИЛОМ КРАСНЫМ,
ГЕОРГИЕМ МУРСКИМ,
РЕГИНОЙ АЙБИНДЕР
(далее следовало сорок две фамилии, среди которых была помянута и Маргарита Коринская)
С К О М О Р О Ш И Н А ! !
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»
Балаганное представление в 3-х действиях с прологом и эпилогом по одноименной опере Н. Римского-Корсакова в сценической редакции и с новыми оригинальными дополнениями на политическую злобу дня Р. Г. Лебрена.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
•
НАРОД НЕ В ЦЕРКОВЬ —
К НАМ ИДЕТ!
У БОГА НЫНЧЕ ВИДИК
ЖАЛОСТНЫЙ.
В ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ —
СВОБОДНЫЙ ВХОД —
ПОЖАЛУЙСТА! ПОЖАЛУЙСТА!
Бога пришлось задеть потому, что представление «скоморошины» намечалось аккурат на те самые часы, что и пасхальная заутреня.
А у Агнии Константиновны нервы вконец расстроились. Она все чаще и чаще плакала беспричинно, не спала по ночам, а если и спала, то кошмары какие-то одолевали, все кто-то душил ее, и она кричала во сне жалобным тоненьким голосом. Записи в заветной тетради становились все туманней и загадочнее; много было о смерти, о боге и о том страшном и черном, кто противостоял ему, – об антихристе. Намекала Агния смутно, что кончина ее близка: «Скорбный ангел у моего изголовья тихо склоняется, и холодом могильным веет от его дыхания…»
Профессор, как уже говорилось, относился к запискам жены с добродушной иронией; в ее отсутствие иной раз, бывало, просматривал их, весело похрюкивал: от сладких харчей с жиру бесится баба! «Неопалимая купина, Жених Полунощный, Бледный конь, Чертог осиянный…» Черт знает что, чепухейшая чепуха, бред, сама перед собой кривляется. У ней прабабка, сказывают, не хуже Салтычихи, крепостных насмерть засекала; сказывают, борзятницей славилась, псарницей, лошадницей: нипочем было ей вскочить на жеребца, скакать охлюпкой за десять верст, на хутор, куда муженек ко вдове-однодворке, раскрасавице, было дело, повадился… И там, железным своим кулачищем измолотив разлучницу и неверного, волокла его, как кутенка, домой да еще и дома добавляла преизрядно, так что он, валяясь в ногах у нее, дар речи начисто терял, а только одно приговаривал: «Таичка! Таичка!» Вот баба была!
А эта? «Ангел скорбный. Жених осиянный…» Тьфу! Верно, верно, мельчает, вырождается дворянское отродье.
Но однажды Аполлон Алексеич такое вычитал в заветной тетради, что, по привычке хрюкнув было, нахмурился вдруг, закусил губу и оторопело и даже с некоторой тревогой поглядел на Агнешкину кровать. Узенькая, белая, с кружевцами, скромная и опрятная, она была воплощением какой-то чистоты необычайной, благоуханной, девичьей. И он впервые за много-много лет подумал о жене серьезно, всем сердцем и всем умом, как о единственной женщине, которую он любил, как о матери его Маргариты… Подумал хорошо и любовно, откинув привычную иронию по поводу ее заумных восторгов и свою мужицкую предвзятость насчет «вырождающегося отродья».
Агния, оказывается, была единственной. Вот в чем дело.
Но тем страшней, тем нелепей показалась запись, помеченная пятнадцатым апреля, совсем недавно. «Если это (подчеркнуто) случится, не вините меня. Я не сама, не по своей воле…» Дальше четыре строки были так густо зачеркнуты, что, как Аполлон ни всматривался, прочесть так и не мог. Темный же смысл того, что прочел, не то что испугал его, а, сказать будет вернее, озадачил и встревожил. Этот «скорбный ангел», приникавший к ее изголовью, не представлял собою ничего, кроме болезненного воображения профессорши, ничего, кроме истерии, характерной для многих сорокалетних, остро переживающих свое увядание женщин. Мальчонкой еще слышал Аполлон, как жаловалась его матери одна деревенская бабенка: «Вот так-то, ягодка, чуть задремишь, а он – вот он! Да давай баловаться да шшипать, бессовестный… Закричишь, вскочишь – никого нетути, а утром – глядь, все груди в синяках!»
Вот что-то такое и с Агнией. Она всегда была чересчур впечатлительна, чересчур умела и любила взвинчивать себя этой новой эротической поэзией, музыкой; к ней всякая мистическая чертовщина липла, как осенняя паутинка… Но это все пустяки были, каприз сытой бабы, но сейчас…
Началось с того памятного вечера, когда, столкнувшись в дверях с Аполлоном, она, предчувствуя что-то ужасное, вбежала в комнату, где в густых, красноватых от заката сумерках плакал Ипполит. Он как-то по-щенячьи скулил, как побитый кутенок.
Опрокинутые ширмочки и стул, скомканный, отброшенный в угол половичок, осколки разбитой чашки, смутно белеющие на полу, – все это подсказывало ее воображению картины самые ужасные. Кузен стоял на коленях возле козетки, уткнувшись в пеструю подушку, обхватив голову руками.
– Боже! – театрально прошептала профессорша, подбегая к нему. – Боже мой, что он с вами сделал?
Щенячье повизгивание оборвалось; какое-то время Ипполит молчал, небольно бился головой о мягкую козетку. Затем зарыдал, смешно хлюпая носом и ртом, выкрикивая бессвязно и хрипло:
– Мужик!.. Хам!.. Красная сволочь… О-о-о!
Это «о» он тянул занудливо, глухо, не отрываясь от подушки, и было дико, неприятно видеть, как в бессильной и жалкой злобе корчится этот немолодой, здоровый, обросший клочковатой бурой шерстью человек.
Агния ахала, всхлипывала, отпаивала Ипполита водичкой, утешала, жалостливо прижимая к диковинному своему бюсту его вшивую, косматую голову.
Наконец он успокоился, затих, поднялся с колен, устало сел на козетку и словно обвис на ней. Голосом, еще прерывающимся от плача, рассказал, как все было, и все, конечно, переврал, переиначил, выставив себя как истинного друга, пытавшегося предостеречь профессора от коварного большевистского обольстителя.
Профессорша терпеть не могла товарища Лесных, она его ненавидела и боялась: бывший каторжник (с детства за этим словом таились всяческие ужасы), в семнадцатом, конечно, убивал порядочных людей (она видела фотографию, на которой товарищ Лесных был с ружьем и крест-накрест опоясан пулеметной лентой); когда приходит к Полю, обязательно наследит ужасными своими сапожищами… Да еще этот его пузыречек для плевков… И он осмелился звать Поля в большевики! Какой ужас! Какой кошмар!