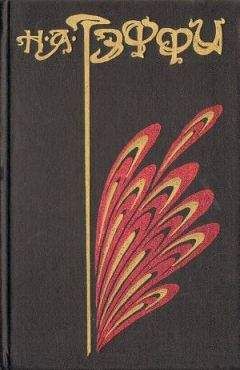Кучеру тоже захотелось поговорить.
Он мало знает. Был в солдатах. Давно. Гнали на неприятеля. А потом еще куда-то гнали. И еще гнали. А куда – и не помнит. Всего не упомнишь.
– Три года дома не был. А пришел домой, жена: «Федорушка, здравствуй». Детки то же. А в углу, смотрю, люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю: «Это кто же у вас в люльке-то?» – «А это, – говорит, – маленький». Ну, маленький так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую: «А откуда же у вас маленький-то взялся?» – «А бабушка, – говорит, – принесла». Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, – Петькой зовут. Ничего, выкормился. О прошлом годе сына женил, Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь, чать, и сами забыли…
– Вот не помню, – шепчет старуха. – Не помню, когда корова именинница… Неловко так-то не знать. Стара стала, забывчива. А грех, коли обидишь…
Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора.
Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая.
– И когда это корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет…
Худо старому человеку! Худо!
Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что, – вспомнить нельзя.
Тихо шуршат забытые рекой камыши.
Ушла река. Камыши забыла.
(Вербная сказка)
Я помню.
Мне тогда было семь лет.
Все предметы были тогда большие-большие, дни длинные, а жизнь – бесконечная.
И радости этой жизни были внесомненные, цельные и яркие.
Была весна.
Горело солнце за окном, уходило рано и, уходя, обещало, краснея:
– Завтра останусь дольше.
Вот принесли освященные вербы.
Вербный праздник лучше зеленого. В нем радость весны обещанная, а там – свершившаяся.
Погладить твердый ласковый пушок и тихонько разломать. В нем зеленая почечка.
– Будет весна! Будет!
В Вербное воскресенье принесли мне с базара чертика в баночке.
Прижимать нужно было тонкую резиновую пленочку, и он танцевал.
Смешной чертик. Веселый. Сам синий, язык длинный, красный, а на голом животе зеленые пуговицы.
Ударило солнце в стекло, опрозрачнел чертик, засмеялся, заискрился, глазки выпучены.
И я смеюсь, и я кружусь, пою песенку, нарочно для черта сочиненную.
– День-день-дребедень!
Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие.
И солнцу нравятся. Оно тоже поет, звенит, с нами играет.
И все быстрее кружусь, и все быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чертик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки.
– День-день-дребедень!
– А-ах!
Разорвалась тонкая пленочка, капает вода. Прилип черт боком, выпучил глаза.
Вытрясла черта на ладонь, рассматриваю.
Некрасивый!
Худой, а пузатый. Ножки тоненькие, кривенькие. Хвост крючком, словно к боку присох. А глаза выкатил злые, белые, удивленные.
– Ничего, – говорю, – ничего. Я вас устрою. Нельзя было говорить «ты», раз он так недоволен. Положила ваты в спичечную коробочку. Устроила черта.
Прикрыла шелковой тряпочкой. Не держится тряпочка, ползет, с живота слезает.
А глаза злые, белые, удивляются, что я бестолковая.
Точно моя вина, что он пузатый.
Положила черта в свою постельку спать на подушечку. Сама пониже легла, всю ночь на кулаке проспала.
Утром смотрю, – такой же злой и на меня удивляется.
День был звонкий, солнечный. Все гулять пошли.
– Не могу, – сказала, – у меня голова болит. И осталась с ним няньчиться.
Смотрю в окошко. Идут дети из церкви, что-то говорят, чему-то радуются, о чем-то заботятся.
Прыгает солнце с лужи на лужу, со стеклышка на стеклышко.
Побежали его зайчики «поймай-ловлю»! Прыг-скок. Смеются-играют.
Показала черту. Выпучил глаза, удивился, рассердился, ничего не понял, обиделся.
Хотела ему спеть про «день-дребедень», да не посмела. Стала ему декламировать Пушкина:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
Стихотворение было серьезное, и я думала, что понравится. И читала я его умно и торжественно.
Кончила, и взглянуть на него страшно.
Взглянула: злится – того гляди, глаза лопнут.
Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю.
Не спалось ночью. Чувствую, сердится он: как смею я тоже на постельке лежать. Может быть, тесно ему, – почем я знаю.
Слезла тихонько.
– Не сердитесь, черт, я буду в вашей спичечной коробочке спать.
Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила.
– Не сердитесь, черт, мне так очень удобно. – Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась.
А он лежал на моей подушечке, как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков.
Я снизала для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете.
Сказала смущенно:
– Это для вас!
Но колечко вышло ни к чему. Лапы у черта были прилеплены прямо к бокам вплотную, и никакого кольца на них не напялишь.
– Я люблю вас, черт! – сказала я.
Но он смотрел с таким злобным удивлением:
Как я смела?!
И я сама испугалась, – как я смела! Может быть, он хотел спать или думал о чем-нибудь важном? Или, может быть, «люблю» можно говорить ему только после обеда?
Я не знала. Я ничего не знала и заплакала.
А вечером меня уложили в постель, дали лекарства и закрыли тепло, очень тепло, но по спине бегал холодок, и я знала, что, когда уйдут большие, я слезу с кровати, найду чертову баночку, влезу в нее и буду петь песенку про «день-дребедень» и кружиться всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться.
Может быть, это ему понравится?
«…Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус».
Иоанн, 21, 4
Она так и смогла уснуть. Она – сестра Веретьева.
Руки болели, ноги, спина; в ушах звенело, и все будто стонал тот раненый.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Встала, посмотрела – ничего нет. Просто тулуп свернутый.
Но больше не легла, а тихонько вышла.
На дворе было уже светло. У соседней избы, где помещались операционная и часть лазарета, суетились солдаты – наливали воду в чаны.
Веретьева прошла на полянку к реке.
Здесь был какой-то свой праздник. Молоденькое солнце брызгало на реку быстрые искры. Река, еще вся холодная и тугая, не размявшаяся от только что сошедшего льда, притворялась суровой и задумчивой, не принимала голубого неба и быстрых искр, оставалась серой, мутной и только чуть-чуть ответно булькала у самого берега.
Махались над водой черными тряпками вороны, опускались на землю, прыгали боком, выводя на талом хрупком снегу замысловатый, словно крестиками вышитый узор.
Далеко направо виднелись кротовые бугры – наши окопы. А по той стороне реки чуть-чуть будто вспахано да не взборонено – немцы.
Веретьева остановилась и смотрела на воду, на солнце, на окопы. Она здесь уже бывала. Их сюда водили, показывали. Но дальше, к самому откосу, идти не велели – там легко могут заметить в бинокль и пристрелить.
Стояла и смотрела.
Какие-то мальчишки-солдатенки и двое деревенских пролезли поближе, спрятались за кустами и, вытянув шею, глядели.
– Что там?
Будто бревно черное плывет по реке от нашего берега.
– Что там?
– Лодка.
– Трое сидят?
– Четверо.
– Женщина с мужчиной и маленькие. – Пригляделась. Да. Женщина в белом платке, отличить можно.
– Чего же это они, сумасшедшие, что ли?
– Колонисты. Тут подальше на нашем берегу – немцы-колонисты.
– До своих утекает, – сказал один из парней. – До немцув.
– До своих, пся крев! – прибавил другой и вдруг рассмеялся. – Ага-а!..
Вдали с берега над кротовыми кучками вздулся дымок. Щелкнуло, брызнула вода около лодки. И сразу – еще дымок. И вдруг лодка изменила свои очертания. Ниже стала. Это сидевший на веслах мужчина нагнулся.
– Чего же он?
Видно, как суетятся в лодке, и вдруг остановилась лодка, закачалась, закружилась. Но потом снова наладилось.
– Женщина весла взяла.
Да, да. Можно разглядеть: женщина гребет. И все туда, на ту сторону.
– Неужели и ее пристрелят?
– А и очень просто, – заметил солдатенок. – Наверное, что они какие-нибудь планты везут!
Но над кротовыми кучками тихо было. И лодка подплывала к тому берегу.