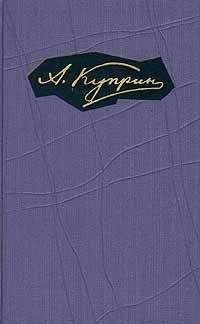— Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!
Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящичек обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец.
— А знаете что? — вдруг воскликнул весело Горизонт. — Мне все равно: я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли… сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За ценой я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили. Не желаете ли приобрести, господин офицер?
— Что же… Я то есть… Почему же?.. Пожалуй…
— И прекрасно! По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, бог с вами! Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить: так и быть по тридцать. Что? Тоже не дешево?! Ну, по рукам. Двадцать пять копеек штука! Ой! Какой вы несговорчивый! По двадцать! Потом сами меня будете благодарить! И потом знаете что? Я когда приезжаю в К., то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». Вы меня там очень просто можете застать или рано утречком, или часов около восьми вечера. У меня есть масса знакомых прехорошеньких дамочек. Так я вас познакомлю. И понимаете, не за деньги. О нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной, вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там! Они сами охотно заплатят за вино, за бутылку шампанского. Так помните же: «Эрмитаж», Горизонт. А если не это, то все равно помните!.. Может быть, я вам буду полезен. А карточки — это такой товар, такой товар, что он никогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потом, вы знаете, — Горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом, — знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый: сколько у вас еще будет романов!
Получив деньги и тщательно пересчитав их, Горизонт еще имел нахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смел на него поднять глаз, и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало, вернулся в коридор вагона.
Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочки, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал:
— А сто, куда зе балисня едет? Ой, ой, ой! Такая больсая! Едет одна, без мамы? Сама себе купила билет и едет одна? Ай! Какая нехолосая девочка. А где же у девочки мама?
В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно:
— Отстаньте от ребенка. Что за гадость привязываться к чужим детям!
Горизонт вскочил на ноги и засуетился:
— Мадам! Я не мог удержаться… Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок! Настоящий купидон! Поймите, мадам, я сам отец, у меня у самого дети… Я не мог удержаться от восторга!..
Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив Горизонта расшаркиваться и бормотать комплименты и извинения.
Несколько раз в продолжение суток Горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины в обществе чернобородого, молчаливого, сумрачного мужчины. С ним Горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая и не решаясь о чем-то спросить. Раз только, около полудня, одна из них позволила себе робко произнести:
— Так это правда? То, что вы говорили о месте?.. Вы понимаете: у меня как-то сердце тревожится!
— Ах; Что вы, Маргарита Ивановна! Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке. Послушайте, Лазер, — обратился он к бородатому, — сейчас будет станция. Купите барышням разных бутербродов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут.
— Я бы хотела бульону, — несмело произнесла маленькая блондинка, с волосами, как спелая рожь, и с глазами, как васильки.
— Милая Бэла, все, что вам угодно! На станции я пойду и распоряжусь, чтобы вам принесли бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю.
В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины с огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряске вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии.
Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты, в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином.
Горизонт был здесь совсем неузнаваем: он был величественно-небрежен и свысока-шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех — эту странную смесь румынок, евреек, полек и русских — и удостоверясь, что все в порядке, распоряжался насчет бутербродов и величественно удалялся. В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять начинал миндальничать с женой, и еврейские анекдоты, точно горох, сыпались из его рта.
При больших остановках он выходил в буфет для того только, чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям:
— Вы знаете, мне все равно, что трефное, что кошерное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу поделать с моим желудком! На этих станциях черт знает какой гадостью иногда накормят. Заплатишь каких-нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. Вот, может быть, ты, Сарочка, — обращался он к жене, — может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?
Сарочка, счастливая его вниманием, краснела, сияла ему благодарными глазами и отказывалась.
— Ты очень добрый, Сеня, но только мне не хочется. Я сыта.
Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинского вина, не торопясь, с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно заворачивал остатки в бумагу и не торопясь аккуратно укладывал их в корзинку.
Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколен. Мимо купе прошел кондуктор и сделал Горизонту какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку.
— Сейчас контроль пройдет, — сказал кондуктор, — так уж вы будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса.
— Ну, ну, ну! — согласился Горизонт.
— А теперь пожалуйте денежки, по уговору.
— Сколько же тебе?
— Да как уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесят, копеек.
— Что?! — вскипел вдруг Горизонт. — Два рубля восемьдесят копеек?! Что я сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари бога!
— Простите, господин! Это даже совсем несообразно: ведь уговаривались мы с вами?
— Уговаривались, уговаривались!.. На тебе еще полтинник и больше никаких. Что это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай! Не на такого напал!
Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью.
— У! Жидова! — зарычал он. — Взять бы тебя, подлеца, да под поезд!
Но Горизонт тотчас же петухом налетел на него:
— Что?! Под поезд?! А ты знаешь, что за такие слова бывает?! Угроза действием! Вот я сейчас пойду и крикну «караул!» и поверну сигнальную ручку, — и он с таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плюнул.
— Подавись ты моими деньгами, жид пархатый! Горизонт вызвал из купе свою жену:
— Сарочка! Пойдем посмотрим на платформу: там виднее. Ну, так красиво, — просто, как на картине!
Сара покорно пошла за ним, поддерживая неловкой рукой новое» должно быть, впервые надетое платье, изгибаясь и точно боясь прикоснуться к двери или к стене.
Вдали, в розовом праздничном тумане вечерней зари, сияли золотые купола и кресты. Высоко на горе белые стройные церкви, казалось, плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А отвесный белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь, точно зелеными жилками и бородавками, был изборожден случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду.