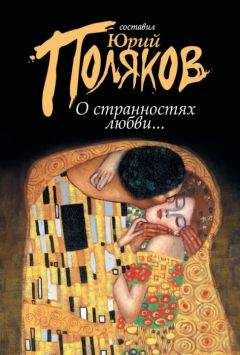На одном из холмов я давно видел женщину, стоящую над могилой… она была высокого роста, и длинное красное покрывало широкими складками струилось до земли, — но как подобные явления вовсе не редки в землях мусульманских, где частые поминки по умершим считаются священным долгом для оставшихся, — я не обращал на нее внимания. Не раз бродящие окрест взоры мои останавливались на стройном стане ее, и снова погруженный в задумчивость, я забывал о ней, забывая все земное. Но вот протекло более четырех часов, как я на кладбище, и она не трогалась с места, не изменяла положения: она сама казалась истуканом надгробным. Это изумило меня. Мусульманка — и в такой поздний час — посреди неверных, вблизи русского стана? Правда, что турчанки скорее одноземцев своих ознакомились с великодушием русских, и в городе, не страшась, ходили поодиночке, — но вечером и за городом — никогда. Гибельная ревность своих страшила их во сто раз более, чем встреча с победителями, и бумажный фонарь был необходимым условием для тех, которых необходимость принуждала выйти ночью на улицу в сопровождении мужа или родственника. Любопытство подстрекнуло меня, и, забросив на плечо полу плаща, я тихими шагами пошел к незнакомке.
Холм, на котором стояла она, занят был армянским кладбищем, сливающимся с прочими. Смерть помирила враждующих: правоверный лежал рядом с христианином; жертва и палач вместе — крест подле столба, увенчанного чалмою. Я приблизился. Я уже стоял перед незнакомкою, — но она не видала, не слыхала меня. Красное покрывало ее отброшено было с лица — и как прелестно, как выразительно было бледное лицо ее, обращенное к небу!.. на полураскрытых коральных устах исчезал, казалось, ропот — и дико блуждали в пространстве черные ее очи. Какая безотрадная горесть напечатлена была на этом высоком челе, какое гордое отчаяние сверкало из этих бесслезных очей, какие горькие жалобы таились в этой белоснежной груди, волнуемой вздохом неразрешимым!! Есть чувства, которых не дерзал еще выразить ни поэт, ни живописец — такое безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы… Сердце мое сжалось, и глубокое соучастие вырвалось речью… Тон голоса смягчил нескромность вопроса.
— Ханум (госпожа)! — сказал я ей по-татарски, — ты, верно, оплакиваешь родного?
Турчанка вздрогнула, но не закрыла лица по общему обычаю азиаток: властительное чувство тоски убило в ней все другие заботы. Казалось, она пробудилась от тяжкого сна моим голосом… Взоры ее остановились на мне, — но ответ ее был едва внятен, — она будто разговаривала с сердцем своим…
— Да, я оплакиваю родного, — сказала она. — Он был мне все на земле: отец мой, брат мой, любовник, супруг! Как заботливый родитель, он дал мне новую душу… как нежный родственник, лелеял меня, — как страстный жених, любил меня, — и я любила его, — примолвила она. — Но это слово пронзило мою душу… — Она склонила голову на сжатые судорожно руки.
— Утешься, красавица, — сказал я, — твой милый теперь в раю.
Лицо ее вспыхнуло.
— Да, он стоил любви самих небожительниц Гурий еще на земле! — отвечала она. — Но я знаю его сердце — оно бы стало и с ними грустить о верной подруге, которая для самого Азрафила не изменит ему и мертвому. Нет, ревность моя к небу была бы напрасна. Не в рай Магомета — в рай Аллы улетела светлая душа его — он был Христианин!
— Христианин? — вскричал я, отступая от удивления… — Но кто ж был он?
— И ты, русский, спрашиваешь, кто был он; и воин, ты не знал товарища, и человек с живым сердцем не имел его другом! Бедный, бедный, — я жалею тебя!.. Когда он был живой, — я отдала бы жизнь за то, чтоб он любил одну меня, — когда он убит, я бы хотела, чтобы все его любили, как я… Но кто так узнает, так горячо полюбит его, как я?.. Ангел было имя души его; моей душой (джан-ашна) я звала его — другого имени не ведала и не хотела я узнать!
Я склонился к надгробному камню, вонзенному стоя, и в самом деле увидел на нем грубовысеченный крест и под ним надпись:
«Здесь покоится прах умершего от раны, полученной в сражении близ… Поруч… Влад…» — далее не мог я разобрать — нижняя часть доски разбита была пулями — в нее, кажется, кто-то стрелял в цель. Участие, еще нежнейшее, овладело мною, когда я узнал, что она любила моего одноземца. Мне стало жаль оставить ее в такой час опасным встречам. Я вспомнил, что за два дня нашли во рву крепостном убитую девушку — жертву ревности, вчерась двух женщин на улице: осмеленные выходом русских, мстительные мужья платили кинжалами, может быть, за мнимые неверности; ласковый взгляд был преступление в глазах изуверов. Желая напомнить ей о поздней поре, я сказал:
— Милая (ман-азизум) — солнце давно уже закатилось!
— Мое солнце и не взойдет, — горестно возразила она. — Ни крик петуха, ни звон трубы, ни даже мой голос не разбудит его утром… Мои жаркие поцелуи не откроют его очей, щеки не улыбнутся мне, уста не молвят слова радостного!
Нежное воспоминание растопило ледяную кору тоски — и в три ручья брызнули слезы; она горько заплакала. Когда я очнулся, щеки мои были влажны.
— Сестра, — сказал я ей наконец, — ты здесь не безопасна. Я честный человек — доверься мне: я провожу тебя, куда ты хочешь: к мечети ли предместия или в знакомый дом. Иначе наши могут обидеть тебя или свои оклеветать. Вели: я твой защитник!
Негодование изобразилось на лице ее; с величавой осанкою подняла она голову и с гордым взором указала мне на небольшой кинжал, скрытый под парчовым ее архалуком.
— Русский, — произнесла незнакомка, — скорей это лезвие, чем рука мужчины, коснется моей груди: я умею умереть… Я уж умерла для клеветы соседей, для мести родных. Пускай они все видят, все знают. Прежде с кровью не исторгли бы из меня тайны любви моей — теперь я рада всякому, везде говорить о ней… в этом моя гордость, мое утешение! У меня уж нечего отнимать, мне уж нечего бояться. Бывало, и звезды ночи, не только злоба людей, не видали шагов моих к милому — тогда мне дорого и страшно было завтра. Теперь у меня нет завтра! Здесь ночь, здесь зимняя ночь! — промолвила она, положив руку на чело, потом на сердце… — Он унес в могилу свет из очей и теплоту из сердца — на его могиле хочу я умереть, чтобы в ней смешались прахи наши, а за ней наши души!
Она сделала рукой знак, чтоб я удалился, склонила колени и погрузилась в молитву. Напрасно я говорил ей, напрасно уговаривал: слух ее был далеко, и струи слез сверкали на лице, озаренном луною. Отдалясь шагов на сорок, я решился охранять ее до рассвета. Неодолимое чувство, может быть, еще нежнейшее участия, приковало меня к судьбе ее… «Несчастная, — думал я, — для того ли гордое чувство любви возвысило тебя над толпою одноземок, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже и в том, что они называют любовию; над толпой, не ведающей иных наслаждений, кроме чувственности, других занятий, кроме детского тщеславия, — чтобы оставить посреди их в пустыне? Для того ли упала завеса с твоего разума, чтобы ты ясней увидела бездну горя? Для того ли чистый пламень страсти утончил все твое существо, чтобы ты живее ощутила в сердце жало разлуки, разлуки вечной?! Какая подруга теперь поймет тебя, какая грубая забава утешит? Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни и на своих крыльях умчал в новую, прекрасную жизнь умственную — но стрела смерти пронзила его в поднебесье — и тебе не дышать более воздухом этого поднебесья, — не прирость снова к земле!»
Колокол главной караульни города прозвучал одиннадцать часов ночи. Кругом все спало мертвым сном. Лишь изредка переклик стражи, да лай собак раздавались в крепости и в стане. Опершись о надгробный обломок, я пробегал взорами горизонт, стесненный мраком и туманом. Сзади меня чернел город, и только над замком сверкали два луча — это были ружья часовых. Пары слоились, волновались по диким, обнаженным хребтам окрестных гор. То возникали они причудливыми зданиями, то расходились серебряным лесом. «Не так ли, — думал я, — вьются ночные мечты около сердца, обнаженного от зелени радости!» Но между гор одна высокая вершина не была облечена пеленой тумана, и расщепленная молниями вершина сия во всей дикости возвышалась над морем паров… «Душа высокая — вот твоя участь: для тебя недоступны мечтательные надежды — не тебе земные утешения!»
Но кто там скачет по гробницам, извлекая из них молнию? Это осман. Белый конь его мчится, как оседланный вихрь, и полосатый плащ (чуха) клубится во мгле, подобно облаку… Рука моя невольно взвела курок пистолета, ибо ненависть турок ознаменовалась не одним тайным убийством. Но всадник вдруг осадил коня — привстал на стременах — страшно сверкают очи под белой его чалмою… окладистая черная борода объемлет бескровное лицо — он кого-то ищет, он нашел свою жертву. Снова конь взмахнул розовой гривою, и в три поскока он уже был на могиле русского, над которой на коленях молилась прекрасная незнакомка. Я видел, как взвился на дыбы конь всадника, видел, как сверкнула сабля, подобна рогу луны сквозь тучу, — слышал, как непонятное для меня проклятие огласило воздух, — и за ним краткий, но невыразимо пронзающий стон… Но все это свершилось в одно мгновение ока, и когда я кинулся туда, — красное покрывало было уже распростерто по земле. Завидев меня, злодей с свирепою радостию устремил на меня бурного жеребца своего и с кликом: «Христиан тази!» (христианская собака) — взмахнул саблею. Он бы наверно изрубил и стоптал меня, если б пуля не встретила его на лету. Огненный фонтан брызнул, и сабля врага, упав с высоты, звучно разлетелась натрое. Испуганный конь кинулся в сторону, но еще всадник держался на нем. Качаясь, помчался он вдаль, упав на гриву, и, когда бешеный бегун перепрянул через водовод, он исчез у меня из виду.