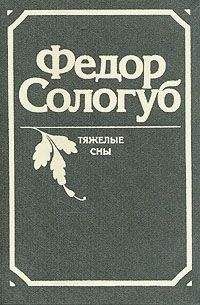— Ну, уж это вы, Яков Андреевич, напрасно, — укоризненно сказал Мотовилов.
— А что же? Ах да… Ну да ведь я, господа, от мира не прочь.
— Однако, — сказал Логин, — ваше мнение, кажется, не сходится с тем, что решил мир.
— Глас народа-Божий глас, — оправдывался Палтусов посмеиваясь. — Однако не выпить ли пока, стомаха ради?
В столовой был приготовлен столик с водками и закусками. Выпили и закусили. Исправник Вкусов увеселял публику «французским» диалектом:
— Дробызнем-ну! — шамкал он беззубым ртом, потом выпивал водку, закусывал и говорил:-Енондершиш! Это постуденчески, так студенты в Петербурге говорят.
— А что это значит? — страшивал с зычным хохотом отец Андрей.
— Же не се па, благочинный бесчинный, — отвечал исправник. — А ну-тка, же манжера се пти пуасончик. Эге, се жоли, се тре жоли, — одобрял он съеденную сардинку.
А его жена сидела в гостиной, куда долетали раскаты хохота, и говорила:
— Уж я так и знаю, что это мой забавник всех развлекает. У нас вся семья ужасно веселая: и у меня темперамент сангвинический, и дочки мои — хохотушки! О, им на язычок не попадайся!
— В вас так много жизни, Александра Петровна, — томно говорила Зинаида Романовна, — что вам хоть сейчас опять на сцену.
— Нет, будет с меня, выслужила пенсию, и слава Богу.
— Выходной была, а туда же, — шепнула сестра Мотовилова, Юлия Степановна, на ухо своей невестке.
Та смотрела строго и надменно на бывшую актрису, и даже не на нее самое, а на тяжелую отделку ее красного платья; но это, впрочем, нисколько не смущало исправничиху.
— Вы какие роли играли? — с видом наивности спрашивала актриса Тарантина, красивая, слегка подкрашенная полудевица.
Наши барыни ласкали ее за талант, а в особенности за то, что она была из "хорошей семьи" и "получила воспитание".
Гомзин сидел против нее и готовил на ее голову любезные слова, а пока тихонько ляскал зубами. Его смуглое лицо наклонялось над молодцеватым, но сутуловатым станом, а глаза смотрели на актрису плотоядно, — издали казалось, что он облизывается, томясь восточною негою.
— Когда я была в барышнях, — рассказывала в другом углу гостиной молоденькая дама — лицо вербного херувима, приподнятые брови, — поехали мы раз в маскарад…
— Со своим веником, — крикнул выскочивший из столовой казначей.
— Ах, что вы! — воскликнула дама краснея. Рядом с дамою, которая недавно была в барышнях, сидела Анна. Пышные плечи в широких воланах шелковой кисеи. Цвет платья как нежная кожица персика. Все оно легко золотилось, и золотистые отсветы ложились на смуглое лицо и шею. Крупные желтые тюльпаны, которыми с правой стороны была заткана юбка, казалось, падали из-под бархатного темно-красного кушака. Перчатки и веер цвета сгёте. Белые бальные легкие башмачки. Медленная улыбка алых губ. В широких глазах ожидание.
Звуки интимного разговора долетали до нее из укромного уголка.
— Давно мы с вами не видались, Михаил Иваныч, — притворно-сладким голосом говорила Юлия Петровна, дочь Вкусова от первой жены, девица с мужественною физиономиею, красным носом, маленькими черненькими усами, высокая, ширококостная, но сухощавая.
Ее собеседник-учитель Доворецкий, толстенький коротыш, лицо приказчика из модного магазина. Разговор ему не нравился; он досадливо краснел, пыхтел и оглядывался по сторонам, но Юлия Петровна преграждала путь огромными ногами и тяжелыми складками голубого платья.
— Да, это давно было, — сухо ответил он.
— Ведь мы с вами были почти как невеста и жених.
— Мало ли что!
— Почему бы не быть этому снова? Ведь вы уже делали мне предложение.
— Нет, я не делал.
— Не вы, так Ирина Авдеевна от вас, вес равно.
— Нет, не все равно.
— Папаша вам даст, сколько вы просили.
— Я ничего не просил, я не алтынник.
— Он даже прибавит двести рублей.
Грубоватый голос Юлии Петровны звучал при этих словах почти музыкально. Доворецкий оставался непреклонным. Досадливо отвечал:
— Нет уж, Юлия Петровна, вы мне и не заикайтесь о деньгах. У вас есть жених: вы за Бинштоком ухаживаете, вы его и прельщайте вашими деньгами, а меня оставьте в покое.
— Что вы, Михаил Иваныч, что за жених Биншток! Это вот вы за Машенькой Оглоблиной ухаживаете.
— Оглоблина мне не пара.
— А я?
— Нет, то было два года тому назад. И вы за это время изменились, да и я себе цену знаю. И вы меня оставьте, пожалуйста. Не на такого наскочили!
Доворецкий решительно встал. Лицо его было красно и злобно.
— Раскаетесь, да поздно будет, — зловещим голосом сказала Юлия Петровна, отодвигая ноги и подбирая платье.
— Шкура барабанная, — проворчал Доворецкий, отходя.
Логин вошел в гостиную. Улыбка Анны опять показалась ему не то досадною, не то милою. Захотелось пройти к Анне. Клавдия остановила. Повеяло запахом сердца Жаннеты. Спросила:
— Вы не сели играть в карты?
— Какой я игрок!
Стояли у дверей, одни. Клавдия нервно подергивала и оправляла драпировку корсажа, которая лежала поперечными складками и была прикреплена у левого плеча, под веткою чайных роз.
— Мы будем танцевать, а вы… Послушайте, — быстро шепнула, — вы меня презираете?
— За что? — так же тихо сказал он и прибавил вслух:-Я не танцую.
— Что ж вы будете делать? Скучать?.. Вы меня очень презираете? Вы считаете меня нимфоманкой?
— Буду смотреть… Полноте, с какой стати! Презирать-глупое занятие, на мой взгляд, — я этим давно не занимаюсь.
Вкусова вслушалась в его слова со своего места и вмешалась в разговор:
— Это танцы-то-глупое занятие? Эх вы, молодой человек!
— Какой я молодой человек! Мы с вами-старики.
— Благодарю за комплимент, только я на свой счет не принимаю.
— Василий Маркович мастер говорить такие любезности, что не обрадуешься, — с кислою улыбочкой сказала Марья Антоновна Мотовилова.
Кто-то заиграл на рояле кадриль. Произошло общее движение. Откуда-то вынырнули и засуетились кавалеры с развязными жестами. Два-три военных сюртука чрезвычайно ловко извивались рядом со своими дамами. Статские кавалеры потащили дам; двигали в стороны плечами, словно расталкивали толпу. Барышни и дамы, которые отправлялись танцевать, имели обрадованный вид.
Логин рассеянно смотрел на нелепые фигуры кадрили. Молодой человек, который дирижировал, кричал глухим голосом.
"Дышать как следует, каналья, не умеет, а туда же, кричит!" — думал Логин.
Кадриль кончилась. Логин пробрался к Анне, сел рядом с нею и заговорил:
— Утомляют меня эти добрые люди!
— Почему вы называете их добрыми? — спросила Анна, ласково улыбаясь ему.
— Спросить бы их, каждый о себе что думает? Все оказались бы добрыми и хорошими. А если б им сказать, что хороших людей по нынешним временам не так много, чтоб всякая трущоба кишела ими, — как бы озлились эти добрые люди!
— Может быть, каждый только себя считает хорошим?
— Хорошо, кабы так…
— Мало хорошего!
Анна засмеялась. Логин сказал, улыбаясь:
— Ведь тут что утешительно? Что если все мои знакомые-хорошие люди, так в хорошие люди не трудно попасть, — я ведь знаю их, мерзавцев, — так рассуждает всякий и охотно наделяет каждого дипломом хорошего. А представить себе только, что хороших людей мало! Значит, это трудно! Ну я, положим, один хорош, остальные-подлецы. Но как же трудно удержаться в такой позиции! Потому их и злит всякая критика.
— Их только? А нас с вами? — оживленно спросила Анна.
— Что ж, было время; и я считал себя и многих моих друзей альтруистами, а за что? На поверку взять, так за то только, что мы на высокие темы умели красно говорить. Теперь мне и самое это словечко долговязое, «альтруизм», нелепым кажется.
— Вы считаете себя эгоистом?
— Все-эгоисты. Люди только обманывают себя на свою же беду, когда уверяют, что возможна бескорыстная любовь.
— Вот уж это несправедливо так рассуждать: как только я перестал быть альтруистом, так и все должны быть эгоистами.
— Впрочем, я готов на уступку. Пусть будут и альтруисты, — не пропадать же слову. Но, право, это не больше как избыток питания.
— Чем же отличается добро от зла?
— А чем отличается тепло от холода или жара? Должно быть, всякое— добро произошло оттого, что нам кажется злом, при помощи какого-нибудь приспособления.
— Да это нравственная алхимия.
А рояль опять бренчал, по зале носилась пара за парою. Гомзин подскочил к Анне с преувеличенною ловкостью. Анна улыбаясь положила руку на его плечо.
Логин рассеянно следил за танцующими. Щеки дам горели, глаза блестели, женские голые плечи были красивы, но кавалеры, на взгляд Логина, были неприличны: красные, потные, скуластые лица, черные клоки волос, которые мотались над плоскими и наморщенными лбами, и выражение любезности и усердия в вытаращенных глазах. Гомзин смотрел сверху, за охровожелтую кружевную Аннину берту, туда, где она прикреплялась к корсажу темно-красным шу; Анна весело улыбалась. Все это казалось Логину глупым.