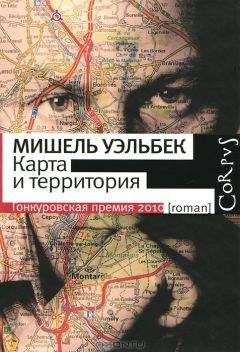детстве не сильно от этой темы страдал, служба в ГУВБ, казалось, выработала у отца устойчивый иммунитет к разговорам о политике, как будто они обязывали его демонстрировать беспрекословную преданность правительству. Отнюдь, он вправе голосовать “как любой другой гражданин”, раздраженно возражал он иногда, и кстати, Поль помнил, что он отпускал весьма резкие замечания в адрес Жискара, Миттерана, а затем и Ширака, покрывших, как ни крути, тридцать с лишним лет политической жизни. Теперь это тогдашнее его осуждение казалось Полю таким яростным, что ему трудно было представить, чтобы отец мог отдать за них свой голос. Интересно, за кого же он голосовал? Очередная загадка, с ним связанная.
Сесиль с мужем голосовали, само собой, за Марин, и уже довольно давно, с тех пор, как она сменила своего отца во главе движения. Сесиль предполагала, что Поль, учитывая, какую должность он занимает, голосует за действующего президента, – и ее предположение, между прочим, было верным, он голосовал за партию президента или за самого президента на всех выборах, ему это виделось “единственным разумным вариантом”, как теперь принято выражаться. Поэтому, чтобы не обидеть его, Сесиль не позволит политической дискуссии зайти слишком далеко, она, как пить дать, уже прочла нотацию Эрве по этому поводу – а Поль знал, что Эрве в молодости участвовал в довольно радикальных движениях типа “Блока идентичности” [17]. На самом деле Поль был вовсе не в претензии – живи он в Аррасе, он бы тоже, скорее всего, голосовал за Марин. За пределами Парижа он хорошо знал только Божоле, процветающий регион, – виноделы, вероятно, единственные из французских аграриев, не считая некоторых производителей зерна, умудрялись не просто не балансировать постоянно на грани банкротства, но даже получать некоторую прибыль. Кроме того, по всей долине Соны располагались многочисленные заводы точной механики, а также автосборочные предприятия, у которых дела шли, пожалуй, неплохо, и они с честью противостояли немецким конкурентам – особенно с приходом Брюно в Министерство экономики. Брюно, совершенно не стесняясь, плевал на свободу конкуренции внутри Европы, шла ли речь о правилах госзакупок или о тарифно-таможенной политике, когда его это устраивало, и в отношении товаров, которые его устраивали, и тут он старался, как и во всем остальном, с самого начала держать себя чистым прагматиком, предоставив президенту расчищать путь и подтверждать при каждом удобном случае свою приверженность интересам Европы, вытягивая губы трубочкой в направлении всех щек всех немецких канцлерш, которые судьба подставляла ему для поцелуя. Все-таки Францию и Германию связывало что-то сексуальное, что-то до странности сексуальное, и уже довольно долгое время.
Сесиль приготовила медальоны из омара, жаркое из кабанятины и испекла яблочный пирог. Все было восхитительно вкусно, она действительно потрясающе готовила, пирог у нее получился вообще улетный – тонкое тесто, хрустящее и в то же время нежное, с точно отмеренным сочетанием вкусов растопленного масла и яблок, где только она всему этому научилась? Сердце разрывалось при мысли, что ей, конечно же, придется скоро посвятить себя совсем другим обязанностям, обидно так растрачивать талант, это настоящая драма на всех уровнях – культурном, экономическом, личном. Эрве, похоже, разделял его диагноз; доев яблочный пирог, он принялся мрачно кивать – ему, разумеется, суждено пасть первой жертвой. Однако он тоже не отказался от рюмки “Гран Марнье”, который Мадлен с радостью налила ему, – интересно, куда делась Сесиль? Она исчезла в самый разгар яблочного пирога. “Гран Марнье” – исключительный ликер, незаслуженно забытый; Поль тем не менее удивился такому выбору: если ему не изменяла память, Эрве всегда был поклонником более терпких вкусов, которые дают арманьяк, кальвадос и другие резкие и невразумительные напитки разных регионов. Наверное, Эрве с возрастом приобрел более женственные вкусы, что показалось ему, в общем, хорошей новостью.
Тут появилась Сесиль с пакетиком, перевязанным ленточкой, и положила его перед ним с застенчивой улыбкой:
– Вот тебе рождественский подарок…
Ну естественно, рождественский подарок, все дарят друг другу подарки на Рождество, как он мог забыть? Он, конечно, полный ноль в семейных отношениях и вообще в отношениях с людьми – да и с животными он тоже не очень ладит. Он развязал ленточку и обнаружил очень красивый металлический футляр, сверкавший неброским серебристым блеском; в нем лежала перьевая ручка Montblanc – Meisterstück 149, отделанная каким-то особым материалом, вероятно, с напылением розового золота, так это называется.
– Ну что ты… это уж чересчур.
– Это от нас с Мадлен, мы с ней скинулись, так что ее тоже поблагодари.
Он расцеловал их обеих, охваченный странным чувством; какой прекрасный подарок, подарок непостижимый.
– Я просто вспомнила, – сказала Сесиль, – что когда-то ты переписывал в тетрадь разные фразы, полюбившиеся тебе изречения известных писателей и время от времени зачитывал их мне вслух.
Внезапно и он вспомнил: да, действительно, было дело. Лет с тринадцати и до последнего класса школы он прилежно выводил каллиграфическим почерком эти фразы, часами корпел над ними, тренируясь на отдельных листочках, прежде чем переписать их в специальную тетрадь. Он как сейчас видел ту тетрадь в твердой обложке с арабской мозаикой. Что с ней сталось, вот вопрос. Может, она так и валяется в его детской, только он начисто забыл, что именно тогда записывал. И тут что-то промелькнуло у него в голове, но не совсем фраза, скорее стихотворная строфа, одна-единственная, внезапно всплывшая из глубин памяти:
Что от королевства ныне
Остается при дофине,
Что пока еще при нем?
Орлеан, Божанси,
Нотр-Дам де Клери,
И Вандом,
И Вандом [18].
Он тут же сообразил, что Дэвид Кросби вставил эти слова в свою песню – впрочем, это даже не вполне песня, а странное сочетание вокальных гармоний без ярко выраженной мелодии, а иногда и без слов, Кросби сочинял их в конце своей карьеры.
Поужинав, они быстро разошлись; Брюно он так и не позвонил. Ладно, теперь уже утром; Поль понятия не имел, что Брюно делает на Рождество. Может, и ничего, Рождество ему наверняка поперек горла. Хотя кто знает, вдруг как раз наоборот, он проводит время с детьми и собирается предпринять самую распоследнюю попытку помириться с женой, так что лучше подождать до двадцать шестого. Ну, он скажет ему, что хочет пробыть в Сен-Жозефе всю неделю.
В легком приятном опьянении он бездумно шагал по застекленному коридору к своей комнате. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел, был постер с изображением Киану Ривза в образе ослепленного Нео из “Матрицы: Революция” с окровавленной повязкой поперек лица, бредущего в каком-то апокалиптическом пейзаже. Поль, что в некотором роде симптоматично, выбрал тогда именно этот его образ, а не один из многочисленных плакатов, на которых он предстает