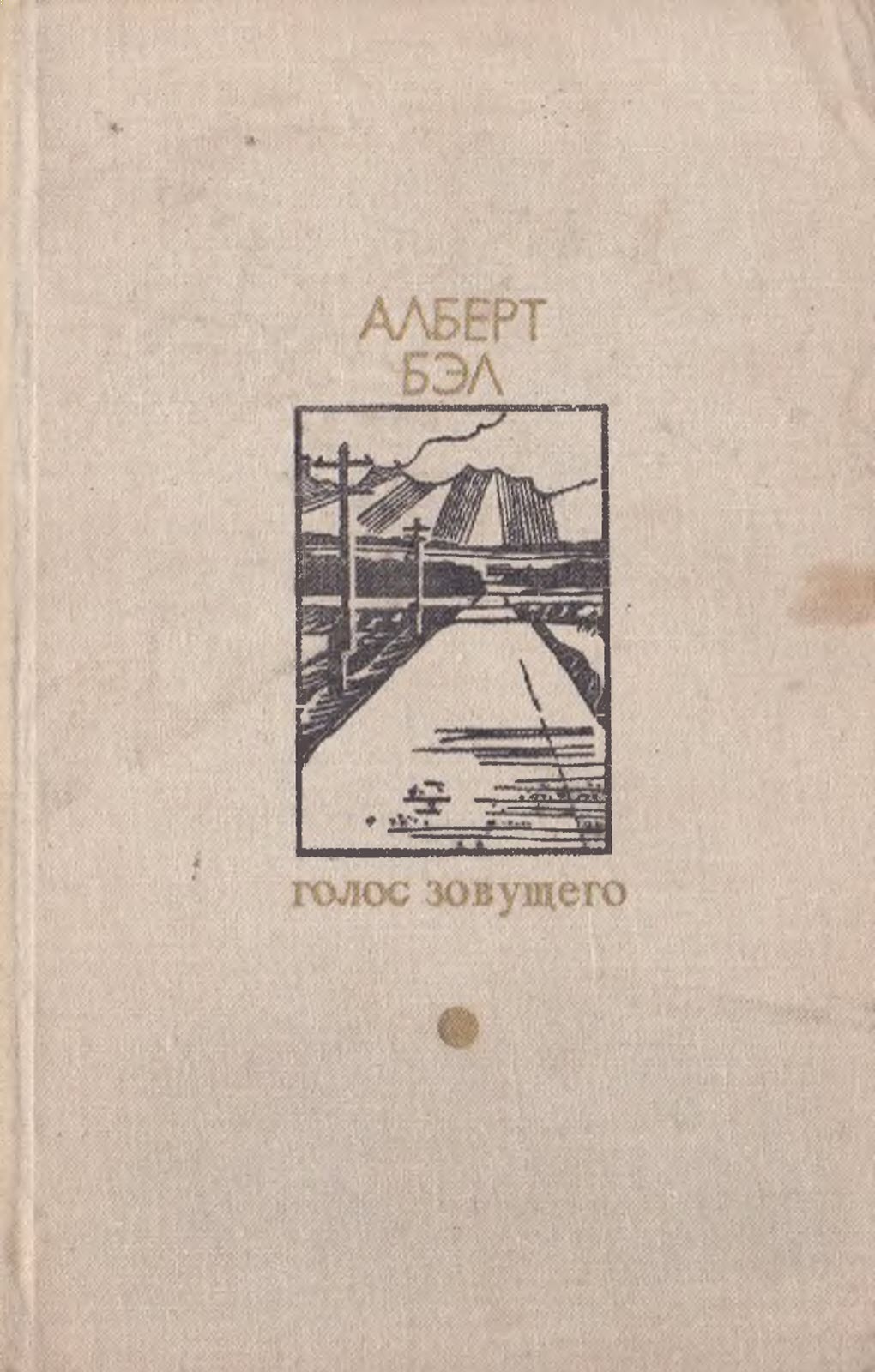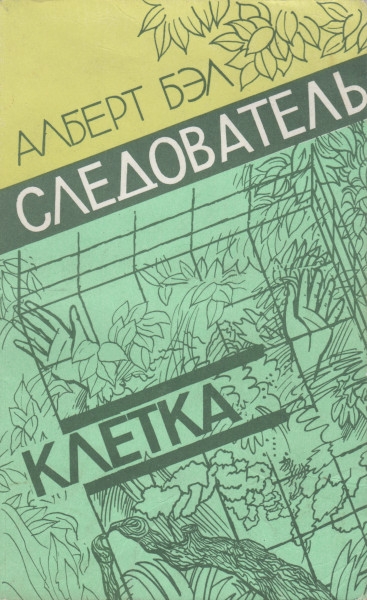Жидкая кашица без вкуса и запаха. Бензин. Нефть. Калории. Нужно было двигаться дальше. Только в этой формуле теперь заключался смысл.
Вены были исколоты, да и бедра, ягодицы тоже все в красных отметинах. Сестра отыскивала в вене нетронутое место и безбольно, ловко всаживала шприц, и живительный допинг растекался по жилам. Все мысли Рудольфа вращались вокруг него самого. Он не был эгоистом, нет, просто он был серьезно болен, он не имел права думать ни о чем другом. Врачи говорили, что это невероятно — думать только о себе. Но Рудольфу хотелось мобилизовать себя с головы до ног. Я проваляюсь здесь еще месяц, говорил он, потом выпишусь, и потому я должен есть все подряд, делать уколы, пить отвратные лекарства, отвратные не потому, что они гадки на вкус, отвратные потому, что это лекарство. Я должен отдать себя на милость врачам, чтоб они влили в меня новые соки, а воля моя пусть сожмется в комок, чтоб я и сам вырабатывал эти жизненно важные соки. Я должен возродить себя, а это чертовски трудно.
— Я, конечно, понимаю твое любопытство, — говорил Рудольф. — Но одного я все-таки не понимаю.
— Чего именно?
— Зачем тебе это? Будь ты, скажем, писателем, тогда другое дело. Тогда б ты все это мог описать. Но ведь камень всегда останется камнем, слов из него не вырубишь. А кроме того, нет у меня желания увековечиться. Сам подумай, я только из больницы, позировать мне некогда, да и неохота. Оставил бы ты меня в покое.
Был солнечный летний день, мы сидели в саду на скамейке, березы стелили густые зеленые тени. За соснами шумело море, где-то на пляже загорали Ева, Фанния и Андрис, за оградой по улице шлепали босоногие курортники.
— А впрочем, что рассказывать, ты и сам знаешь, — продолжал Рудольф. — Все прошло у тебя на глазах. Война, госпиталь, институт, завод, лаборатория. Неужели для тебя так важно, что я думаю? По-моему, куда важней поступки. Я не умею отвечать на такие вопросы. До этого нужно дойти самому. Ну, правда, что тебе ответить? Кому не покажется диким, что его когда-нибудь не станет? И все же люди исчезают. Остаются плоды их труда — так принято говорить. Менять профессию теперь уже поздно. Скверно, конечно, что не лежит у меня душа к этой работе. Вечно я занят по горло, ибо мне говорят: «Этот Ригер жить не может без своей лаборатории». Но тебе-то откроюсь: я много работаю только потому, что ничего другого не умею делать. Даже отдыхать и то не умею. Одна отрада — Фанния и Андрис. Не сказать, что нам живется легко, зато дружно.
— Да, это я знаю. Знаю, что Фанния ушла из десятого класса, что потеряла пять лет, прежде чем смогла продолжить учебу. Все знаю. Ты рано женился!
— По-моему, — Рудольф поднялся, прошелся немного и пересел на траву. — По-моему, это у нас в крови.
— Что именно?
— Нравятся нам молодые, красивые — вот что. Я женился на Фаннии, когда ей было семнадцать. Ты на Еве, когда ей было девятнадцать.
— Еве было двадцать. А ты, брат, считаешь, что двадцать лет это мало?
— Нет, не считаю. Рано жениться — вот что у нас в крови.
— Выходит, ты женился на Фаннин потому, что в твоем генетическом паспорте обнаружили такой-то и такой-то ген, а?
— Ну не совсем так, а впрочем, ты недалек от истины. В женитьбе я следовал какому-то инстинкту. Влюбился уже позднее. Мне посчастливилось. Женись я на девушке, которую не смог бы полюбить, пришлось бы разводиться.
— Значит, Фаннию ты полюбил совершенно случайно?
— Нет. Случайно я женился. Как сейчас, помню свои мысли в первую ночь. «Ну вот, в твоих руках сердце красивой женщины, — говорил я себе. — Ты счастлив? Не знаю, скорее всего — доволен». И это не был цинизм, циник сказал бы, что счастье — вздор. А я считаю, что красивая женщина сама по себе предвестница счастья. Крепко сказано, правда? Я становлюсь круглым идиотом, когда начинаю рассуждать о таких вещах. И все-таки счастье — это что-то другое. Но что? Человек ищет его, не находит, и, видимо, счастье — это поиск. Уже позднее, когда мне дали лабораторию, когда родился малыш, когда он подрос, стал ходить, говорить и думать, только тогда я понял, что влюбился. Не понимаю, ты-то чего тянешь? Почему не заведешь себе такого же малыша?
— У нас все было иначе, — сказал я. — Совсем иначе. Когда я увидел Еву, я был сражен. А малышом не обзавелся потому, что слишком нянчусь со своим каменным потомством. Своего рода эгоизм, не так ли? Наверное, мы оба эгоисты. Мы с Евой.
Моя память всемогуща. Я поворачиваю стрелки как хочу. Единственно, в чем бессилен — дать точность рисунка. Отдельные линии намечены предельно четко, но в целом рисунок расплывчат, наверное, прошедший отрезок времени слишком мал, а кроме того, я чувствую усталость. Я бы с удовольствием выпил горячего кофе. Чтобы не утратить красной нити, я теперь не стану отклоняться в сторону. Кому это нужно? Утром глина лежит бесформенной массой, к вечеру окажется, ты вылепил не то, что задумал. Если бы кто-то мне утром сказал, что я всю ночь буду думать о смерти, я бы рассмеялся ему в лицо. Может, было у меня предчувствие? Когда я открыл окно, и посмотрел на небо, и подумал про себя: не нравится мне это небо. Не нравится. Может, только теперь мне кажется, что еще тогда у меня было предчувствие? Нет, не было никакого предчувствия. Я проснулся первым, потом проснулась Ева, я приготовил завтрак, мы пили чай. О чем мы говорили? Обо всем и ни о чем.
— Ну и погодка.
— Да, — говорю, — может, еще разгуляется.
— Если будут деньги, летом уедем далеко-далеко.
— Да.
Я зависим от договора. Будет договор, будут деньги, будет лето далеко-далеко. Скульптура требует больших затрат. Камень. Транспортировка. Высекание. Цветные металлы. Отливка. Так иногда уходят все деньги, и лето получается близко-близко.
— Поедем в Закарпатье.
— Да.
— А может, в Сибирь?
Сибирь — давнишняя мечта Евы.
— Поедем в Сибирь!
— А что это ты так легко со всем соглашаешься? Предложи я поехать тебе на луну, ты б и тут согласился, глазом не моргнув!
Я согласился и с тем, что легко со всем соглашаюсь. Я уверен — до начала лета Ева придумает еще много поездок, и мне не хочется ее заранее расстраивать отказом. Через несколько дней она придумает что-то еще, например,