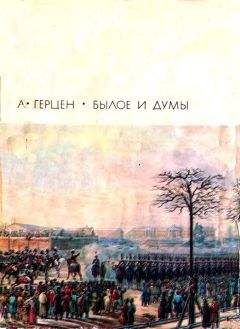Для меня было очевидно, что рано или поздно вопрос станет для Ворцеля так - разорваться с тогдашними членами Централизации и остаться в близком отношении со мной или разорваться со мной и остаться по-прежнему с своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее - я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился.
Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так - все расходы книгопечатания (бумага, набор, наем места, работа и etc.) падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки, - я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша - но вышло, что и она была мала.
Для своих дел и преимущественно для собрания денег Централизация решилась послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтоб он пробрался в Киев, а если можно - в Москву - для русской пропаганды - и просили от меня писем. Я отказался боясь наделать бед. Дни за три до его отправления, вечером встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил:
- Вы сколько даете на посылку эмиссара - с своей стороны?
Вопрос показался мне странным, но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов десять (250 фр.).
- Да что вы, шутите, что ли? - спросил, морщась, Зенкович. - Ему надобно по меньшей мере шестьдесят фунтов, а у нас ливров сорок, недостает. Этого так оставить нельзя, я поговорю с нашими и приду к вам.
Действительно, на другой день он пришел с Ворцелем и двумя членами Централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать достаточно денег на посылку эмиссара - а согласен ему дать русские печатные листы.
- Помилуйте, - отвечал я, - вы решились послать эмиссара, вы находите это необходимым, - трата падает на вас. Ворцель налицо, пусть он вам напомнит условия. (123)
- Что тут толковать о вздоре! Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет? Тон этот мне, наконец, надоел.
- Вы, - сказал я, - кажется, не читали "Мертвых душ", а то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего именья, заметил, что и с той и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ - мы делили работу нашу и тягу пополам, на том условии, чтоб обе половины лежали на моих плечах.
Маленький, желчевой литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре и заключил нелепую и невежливую речь вопросом:
- Чего же вы хотите?
- Того, чтоб вы меня не принимали ни за bailleur de fonds154, ни за демократического банкира, как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства и, кажется, слишком мало меня... вы ошиблись...
- Да позвольте, да позвольте... - горячился бледный от ярости литвин.
- Я не могу дозволить продолжение этого разговора, - сказал, наконец, Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая. - Или продолжайте его без меня. Cher Herzen155, вы правы, но подумайте об нашем положении - эмиссара послать необходимо, а средств нет.
Я остановил его.
- В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать - а требовать в этой грубой форме просто гадко. Деньги я дам, делаю это единственно для вас и - и даю вам честное слово, господа, в последний раз.
Я вручил Ворцелю деньги - и все мрачно разошлись.
Как вообще делались финансовые операции в нашем мире - я покажу еще на одном примере.
После моего приезда в Лондон в 1852, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свою income-tax156 и платить бессемейным процентов десять, семейным меньше. (124)
- Примут все, - заметил Маццини, - а заплотят весьма немногие.
- Стыдно будет, заплотят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело, мне оно близко, как родное - я дам десять процентов с дохода единовременно. Это составит около двухсот фунтов. - Вот сто сорок фунтов, а шестьдесят останутся за мной.
В начале 1853 Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье - один в шинели с меховым воротником, потому что он десять лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника - но с седыми усами и военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю-Роллена - он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что не имею.
Несколько дней спустя тот же вопрос был мне сделан Ворцелем.
- С чего это взял Ледрю-Роллен?
- Да ведь дали же вы Маццини.
- Это скорее резон не давать никому другому.
- Кажется, за вами осталось шестьдесят фунтов?
- Обещанные Маццини.
- Это все равно.
- Я не думаю.
...Прошла неделя - я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомлял меня, что до его сведения дошло, что я не знаю, кому доставить шестьдесят фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как представителю Маццини в Лондоне.
Маццолени этот действительно был секретарем Маццини. Чиновник, бюрократ по натуре - он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами.
Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853. была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать - потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами и с Братиано, с которым был в важном разговоре.
- Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей.
- Нет, я сам узнал из "Теймса" - жду с часу на час депешу. (125)
Подошли еще человека два. Маццолени был доволен и потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять.
- Откуда же вы знаете? - спросил я его.
- Это... это, разумеется, мои соображения, - заметил, несколько смешавшись, Маццолени.
- Завтра утром я к вам приеду...
- А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас.
- Вы меня одолжите - от семи до девяти я буду у Бери.
Маццолени не забыл - часу в восьмом я обедал у Вери. Взошел итальянец, которого я раза два видал - он подошел ко мне, осмотрелся, выждал, когда гарсон пошел за чем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было, - ушел.
...Получив письмо - от этого статс-секретаря по революции - я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров - что я без письма Маццини вовсе не намерен их кому б то ни было отдавать.
Маццолени написал мне длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего - не выходя, впрочем, из пределов парламентской вежливости.
Не прошло недели после этих искушений - как утром приехала ко мне Эмилия Г., одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит немедленно выслать денег, а денег нет.
- Вот вам, - сказал я ей, - знаменитые шестьдесят фунтов, - не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени - да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков.
Предупреждая наш русский, национальный вывод из моего рассказа - я должен сказать, что деньгами, так собираемыми, никогда никто не пользовался;157 у нас (126) их кто-нибудь украл бы, - здесь они исчезали в том роде, если б кто-нибудь, не записывая нумеров, жег бы на свече ассигнации.
Эмиссар поехал и приехал назад, ничего не сделавши. Война- приближалась... началась. Эмиграция была недовольна - молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля в неспособности, лени, в желании устроить свои делишки - вместо польских дел - в апатии. Неудовольствие их дошло до явного ропота, они поговаривали об отчете, который хотели требовать от членов Централизации, об открытом заявлении недоверия. Их останавливало и удерживало одно - уважение и любовь к Ворцелю. Сколько мог, я, через Чернецкого, поддерживал это - но ошибка за ошибкой Централизации должны были, наконец, вывести из терпения хоть кого.
В ноябре 1854 был снова польский митинг - но уже совсем в другом духе, чем в прошлом году. Председателем был избран член парламента Жозуа Вомслей: поляки ставили свое дело под английский патронаж. В предупреждение слишком красных речей Ворцель написал кой к кому записки вроде полученной мною: "Вы знаете, что 29 у нас митинг; не можем пригласить вас и в этот год, как в прошлый, сказать нам несколько сочувствующих слов: война и необходимость сближения с англичанами заставляет нас дать митингу иной (127) цвет. Не Герцен, не Ледрю-Роллен и Пьянчани будут говорить - а большей частью англичане, из наших же один Кошут возьмет речь, чтоб изложить положение дел и проч.". Я отвечал, что "приглашение не говорить на митинге я получил - и с тем большей охотой его принимаю, что оно очень легко".