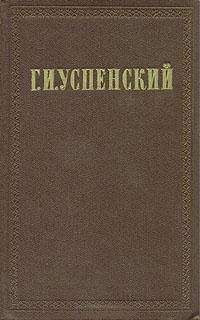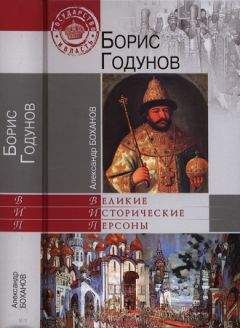Подъезжают приятели к поместью Клубницына, и все теперь господствующие в деревенской жизни передряги отражаются и говорят о себе на каждом шагу: когда-то богатое поместье — носит теперь следы быстрого разрушения: с каменных столбов у ворот кто-то стащил каменные шары; на их месте торчат железные спицы и растет трава; травою зарос весь двор, трава покрыла собою дорожки и куртины цветника, еще недавно разбитого перед подъездом, и теперь на главной клумбе, против крыльца, сохранившего кое-что от прежней изящности своей, — стоит водовозка, протянув короткие оглобли с веревочными тяжами. Самая фигура дома постарела и обветшала как-то вдруг, как стареют люди, вдруг переменившие разгульный образ жизни на степенность и солидность. Не заставленные цветами и лишенные занавесок окна, палка над бельведером, с обрывком веревки вместо флага, стены, ободранные до кирпичей, и колонны, кое-где облупленные до тоненьких пластинок драниц, — все это грустно действует на присматривающегося к жизни человека, потому что говорит о замирании этой жизни. Сад — безо всякого присмотра, мостики, перекинутые через канавки, устроенные собственно ради художественности картины, — кое-где прогнили и без перил. На противоположном, поднимающемся от сада холме вместо парка, недавно красиво раскинутого на нем, — торчат только голые пни, и глазу, привыкшему к художественной дикости столетних дерев, приходится натыкаться теперь на дрянные, полуразвалившиеся мужицкие избенки и проч. Клубницын как-то смутно понимает, что до тех пор у него будет пусто в кармане, пока этот мужичий вид будет носить признаки живописности: то есть эти дыры в крышах, эти покачнувшиеся и покосившиеся стены и проч. и проч. Понимает он также, что едва ли с его характером когда-либо будет можно заткнуть щели в мужичьих крышах, выпрямить все покосившееся и таким образом не обидеть и себя. Будучи почти уверен в противном, он уверяет и себя и других, что парк срублен для того, чтоб очистить вид, хотя и знает, что произошло это от совершенно посторонних причин, ради тех же стеснительных обстоятельств, которые заставляют ухаживать за мещанином Кузьмою Прокофьевым, почти безвыездно обитающим в бельведере у Клубницыных. Кузьма Прокофьич человек очень тонкий: он очень хорошо понимает, что барин (Клубницын) в теперешнее трудное время никаким родом не может сообразить: как быть? Поэтому он считает выгодным сам помогать ему в этом: он достает ему деньги, закладывает вещи, скупает понемногу луга и проч. и проч. Все это Кузьма Прокофьевич делает с огромной выгодой для себя, попросту говоря — грабит Клубницына, но грабит так изящно, так художественно, что Клубницын решительно не променяет его ни на кого: Кузьма Прокофьич обделает всякое дело тихо, без огласки, роняющей во мнении околодка достоинство Клубницына, и прямо принесет ему чистые денежки; причем самому барину не придется двинуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем, а уж дело сделано, и вот есть деньги. А это Клубницын ценит дороже всего, хотя бы ему приходилось получать только двадцатую часть против того, что он терял. Главное в Кузьме Прокофьевиче — это отсутствие всякой мужичатины и, напротив того, деликатность, уменье дать "не заметить". Кузьма Прокофьевич до сих пор величает господ Клубницыных знатью, известными помещиками, и даже в тот момент, когда ему хорошо известно, что в целом доме этих знатных господ нет гривенника и неизвестно, когда еще будет, — он с высоким благоговением в лице пьет чай в самом углу комнаты, около двери, и не упустит случая вставить фразку вроде: "…вот тоже, опять, Быковы — знатные господа, примерно хоть бы и ваша милость". Клубницын понимает все это и сам и все-таки ценит эту услужливость, которая дает ему некоторую возможность жить попрежнему. Словом, дела Клубницына идут плохо: в хозяйстве полнейшее расстройство, дома полнейшая пустота и отсутствие всяких интересов под гнетом все более и более наваливающейся тоски. И в этом-то жилище Бабков не был лишним, принося пользу как третье лицо между двумя недовольными; был полезен, не давая возможности проявляться этому недовольству, отвлекая неприятные столкновения, могущие произойти вследствие него. А недовольными были Клубницыны: муж и жена. Оба они были еще очень молодые люди, привыкшие к постоянно разнообразной жизни, исключительно направленной к достижению удовольствий; очутившись теперь в крайнем положении, они начали сваливать вину настоящих запутанных дел и собственной пустоты друг на друга; муж говорит, что жена не умеет поддержать его в трудную минуту; "другая бы, — прибавлял он, — то-то и то сделала бы и придала бы мужу энергии"; а жена толкует, что "муж виноват, что не обращает на нее, слабое существо, никакого внимания, не хочет поддержать — гибни, мол, лети в бездну", "другой бы…" и проч. Вследствие такого рода отношений супруги дулись. А являлся Бабков, начинал что-нибудь болтать, и оба супруга смеялись или ахали. Бабков имел способность целые часы проводить, например, за альбомом фотографических карточек и трещал при этом нескончаемо; было ему темою все: фигура носа на портрете, поза, глаза, выражение лица и проч. По этому поводу припоминались разные сцены, когда-то слышанные, столкновения, случаи и проч. и проч. Время в этой болтовне проходило незаметно. Начинала m-me Клубницына играть на фортепьяно, Бабков рассыпался в похвалах и, подглядев, что похвалы эти действительно находят уголок в сердце барыни, — принимался понемногу ухаживать за ней, не рассчитывая на какой бы то ни было успех и действуя только ради доставления приятного другим, на этот раз — барыне. — Бабков имеет в глазах Клубницыных еще то важное значение, что иногда его для собственной потехи (желание которой, вместе с некоторыми другими, тоже барскими, странностями, сидело во всей своей силе в этих молодых представителях старого поколения) — можно было третировать как угодно: Бабков будет отшучиваться, выйдет комедия, а время и тоска уйдут хоть на минутку. Третирование Бабкова начиналось обыкновенно очень скоро после привычки к нему, после того, как все занятные его анекдоты были пересказаны по два, по три раза и надоели. Жертвою насмешек Клубницына (а иногда даже и Клубницыной) Бабков бывал особенно в то время, когда в обществе их находился посторонний, четвертый, или вообще были посторонние люди, гости. Тогда над Бабковым или просто хохотали, если гость был разбитной человек, или делали ему всякого рода неприятности, подлости, — задавая, например, такие вопросы: "А что, Николай Федорович, милостивейший государь, не знаете ли, как дороги теперь пощечины?" Бабков отшучивался, как мог; и в этой жизни, лишенной, из-за пустоты желудка, всякой свободы, терял все свое, излыгался, принужден был и врать, и надувать, и фарсить, лишь бы не быть выгнанным в шею. Жалкое было его существование!
Шло, однако, время — надоел, как собака, Бабков — и при нем, как и без него, попрежнему начинали дуться друг на друга супруги. Попрежнему подходила к ним в страшном образе душевная пустота, наряженная в нищенские лохмотья, — оплеванная и поруганная. Бабков предпочитал сидеть, лежать и курить в своей комнате и как можно реже показывать свой нос в комнаты Клубницыных, так как весь запас разнообразных сведений, которыми он был так пленителен в первое время, — истощился, и ему раз уже было сказано: "Отстаньте, ради бога, с вашим вздором". Бабков и Клубницыны тосковали и вздыхали невыносимо; весь дом носил оттенки какой-то ужасающей мрачности: в верхнем этаже, где никто не жил, ветер стучал рамами и дребезжал стеклами, нанося пыль на кой-какую оставшуюся здесь мебель; в нижнем — в жилище Бабкова и Клубницыных, царствовала злая тишина; не слышно было даже звука фортепьяно, изредка шумело платье, и если раздавалось слово мужа или жены, то раздавалось оно со злостью, хотя бы состояло только в вопросе: "где платок?", "дайте воды", и проч., и проч., и проч. Все, казалось, затянулось в какой-то страшно тугой узел, который развязать нет никакой возможности, — а надо разрубить.
— Решено! — вскакивая со стула и швыряя на пол книгу, с беспредельным одушевлением восклицает Клубницын, — у нас — бал!
— Бабков, бал! — высовывая голову в дверь к Бабкову и снова исчезая, извещает он…
— Кузьма Прокофьич! — продолжает Клубницын, впопыхах вбегая в бельведер. — Выручайте! Завтра — бал… что хотите!.. Вы просили у меня на пять лет арбузовские сенокосы — возьмите… Только, ради бога…
— Очень хорошо-с…
— Распорядитесь: что нужно… Музыка, все… все… самое лучшее — берите все… Не могу…
— Очень хорошо!
— Душка! — ловит Клубницына Бабков в сенях. — Позволь тебя расцеловать… Гениально!..
— Что, в самом деле, из-за чего я себя мучаю?
— Дай мне твои щеки… щеки, понимаешь ли…
— Отстань… Измучился, как собака…
— Ну, зачем это, Пьер? — с радостным, плохо скрываемым волнением спрашивает жена.