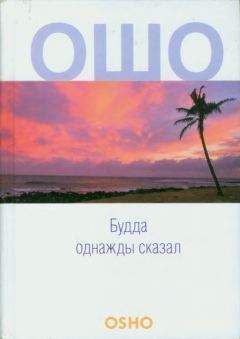«Надо, надо думать!» Нечто подобное не раз говорил он и раньше!
— Все хочется понять, чего нельзя понять, точно мне пятнадцать лет.
«Ненормально» было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках, «ненормально» было и качество их (в смысле правдивости, откровенности).
Мережковский справедливо сказал:
— В литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой.
Так говорила и Софья Андреевна:
— Он в дневниках такие вещи о себе писал, что я не понимаю, как можно о себе так писать!
Самообнажение атавистическое? Самообнажение, самобичевание святых?
«Ненормально» было и это: всю жизнь, с детства до самого смертного одра «исправляться, совершенствоваться». Недаром мать Дмитрия Нехлюдова сказала Коленьке Иртеньеву:
— C'est vous qui Ktes un petit monster de perfection[18].
Софья Андреевна и писала и говорила:
— Такие умственные силы пропадают в пиленье дров, в ставлении самоваров и в шитье сапог!
— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.
И прибавляла, обращаясь к нему самому:
— Тебе полечиться надо.
Да, «это от нездоровья». Бог дал беспримерный талант, необыкновенные умственные силы, и человек сам это прекрасно знает. Казалось бы, что еще нужно? Главный труд всей жизни, главная ее цель — использовать на великую радость ближнего своего только это — талант и ум. Но вот этот человек тратит себя на самовары, на рубку дров, на кладку печей, на целые годы прерывает иногда свой художественный труд для педагогики… на пороге старости вдруг садится за изучение древнегреческого, потом древнееврейского языка, изучает и тот и другой с быстротой непостижимой, но и с таким напряжением всего себя, что обнаруживается полная необходимость ехать в Башкирию, пить кумыс — спасать себя от смертельного переутомления, от зловещих проявлений своей прирожденной чахотки, от чахоточного кашля и пота; потом составляет «Азбуку», учебник арифметики, книжки для школьного и внешкольного чтения; изучает драму, — Шекспира, Гете, Мольера, Софокла, Еврипида, — изучает астрономию; потом опять: «Я только и думаю, что о воспитании, обучении, я опять весь в педагогике, как четырнадцать лет назад». Софья Андреевна была вполне права, если судить все это с точки зрения простого житейского рассудка: «Эти азбуки, арифметики, грамматики — я их презираю. Его дело — писание романов». Но вот он всю жизнь учится — и учит: простая ли эта страсть? Не страсть ли (или долг) библейских пророков, Будды, браманов? «Высшая каста, каста браманов, учителей народа, требовала от человека равнодушия к земным благам и победы высшей природы над низшей. Предполагалось, что человек, воплотившийся в касте браманов, прошел уже через все низшие ступени и приобрел нравственную силу и мудрость, благодаря послушанию, совершенному исполнению своего долга и усилениям в борьбе за правое дело, — прошел все это в прежних воплощениях, и это давало ему право и обязывало учить. Идеалом же и целью браманов являлась мудрость, внутренняя свобода, всепрощение, любовь ко всему живому, чистота и единение с Первоисточником жизни».
«Мировая совесть», говорят про него. Совесть у него была тоже «ненормальная», гипертрофированная. Вот он видит в зимний морозный день нищую деревенскую бабу: боже, какой приступ сердечной боли, стыда, омерзения к себе! Баба холодная, голодная, «а я в теплом полушубке, я сейчас приду домой и буду жрать яйца!» Ночью, на московской улице, городовые ведут пятнадцатилетнюю проститутку в участок — опять ужас, мука: «Ее увели в полицию, а я пошел в чистую покойную комнату спать и читать книжки и заедать воду смоквой! Что же это, такое?» Да, что же это такое? Но миллионы обыкновенных людей говорят «нормально»: «Все так, но можно ли все погосты оплакать! Это уже сумасшествие». И он сам, подтверждает это: «Я-то знаю, что я сумасшедший»!
В голодное лето 1865 года он пишет с той силой, которая только ему одному была присуща: «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, наши молодые дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там голод покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохшей земле и обдирает мозольные пятки у мужиков и баб и трескает копыты у скотины…» Да, это ужас. Но ведь живут же люди среди ужасов. Почему же не может он? Почему все погосты оплакивает? «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, и вокруг всего на свете. Можно ли иметь такую совесть, такое «чувствительное сердце», которое он имел и в ранней молодости, и в годы мужества, высшей телесной и душевной крепости и уже огромного жизненного опыта. Совершенно «ненормальные» противоречия! И в молодости, и в зрелости, и в старости сколько, повторяю, было в нем всяких земных и даже звериных сил и какая тяга к ним, какое чувствование и восхищение ими! Ведь это он написал в молодости, как собственную душу и кровь, Ерошку, Лукашку, людей достаточно «несовестливых», он видел тысячи страданий и смертей и на Кавказе и в Севастополе, а в зрелости прошел не только в действительности, но и за письменным столом, за многолетним трудом над «Войной и миром», такое познание человеческой жизни и всех жестоких непреложных законов ее, что уж, кажется, мог бы не плакать над нищей бабой и не проклинать себя за съеденное яйцо. Но вот — плачет.
«Он был весь воплощенное угрызение социальной совести», — говорил Мережковский в столетнюю годовщину его рождения. «Социальной»! Гораздо правильнее говорил Ал данов: «Он всю жизнь уклонялся от общественной повинности (хотя и не мог иногда уклоняться)… Про него можно скорее сказать, что он был противообщественный деятель…» В старости он уже всеми силами души отрекался от всякой деятельности, от всякого «делания». Иначе и быть не могло: ведь, как сказал Плотин, «деятель всегда ограничен, сущность деятельности — самоограничение: кому не под силу думать, тот действует». Ну, а кому под силу, тот «рвется из бытия к небытию», начинает спрашивать: «А может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь?» — относительно чего философ Шестов замечает: «Смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может, с обычной точки зрения, лишь безумие», иначе говоря, ненормальность.
Страдания толстовской совести были так велики по многим причинам, — и потому, что, как он сам говорил, было у него воображения «несколько больше, чем у других», и потому, что был он родовит: это вообще надо помнить, говоря о его жизни; роды, наиболее близкие ему, была по своему характеру, как физическому, так и духовному, выражены резко; были они, кроме того, очень отличны друг от друга, противоположны друг другу; графы Толстые, князья Горчаковы, князья Трубецкие, князья Волконские — тут, как во всех старинных родах, да еще принимавших немалое участие в исторической жизни своей страны, все имеет черты крупные, четкие, своеобразные; отсюда все противоположности, все силы и все особенности и в его собственном характере; но, главное, отсюда один из тех бесчисленных грехов, которые он почти весь свой век чувствовал на себе и в огромном наличии которых он уверил весь мир: грех его принадлежности к «князьям мира сего»; в этом грехе он был неповинен, но все равно: «Отцы наши ели виноград, а у нас оскомина».
И все же чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством «Единства Жизни», говоря опять-таки словами индийской мудрости. Будда не мог не знать, что существуют в мире болезни, страдания, старость и смерть. Почему же так потрясен он был видом их во время своих знаменитых выездов в город? Потому, что увидал их глазами человека как бы первозданного и вместе с тем уже такого, бесчисленные прежние существования которого вдруг сомкнулись в круг, соединились своим последним звеном с первым. Отсюда и было у него сугубое чувство «Единства Жизни», а значит, и сугубая совесть, которая всегда считалась в индийской мудрости выражением высшего развития человеческого сознания. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен «совсем как что-то живое», и он «весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа». Что ж дивиться после этого его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой!
Как философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна, моральная проповедь или возбуждает улыбку («прекрасные, но нежизненные бредни»), или возмущение («бунтарь, для которого нет ничего святого»), а вероучение, столь же невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще продолжается, хотя и в несколько, иной форме, то отношение к нему, которое было когда-то в России. Только одна «левая» часть этого большинства прославляет его — как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за ним титул «мировой совести», «апостола правды и любви».