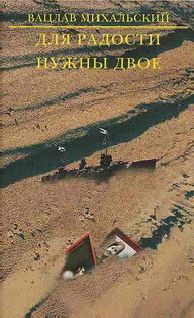Улицы Москвы еще сохраняли прежний, довоенный облик, но многое изменилось. Над центром зависли пузатые аэростаты, якобы способные помешать возможным немецким бомбардировкам, было много военных, да и все штатские как-то подтянулись, приосанились, нацелились на сопротивление, на оборону своих углов, своих домов, своих улиц и переулков. В воздухе пахло войной. Из репродукторов гремели марши, прерываемые сводками Информбюро[28] – мощный, победительный голос Левитана[29] даже при наших поражениях не оставлял врагу никакой надежды. Был только конец июля, и еще шапкозакидательская бравада предвоенной советской пропаганды катила свои радио– и прочие волны по инерции, еще не верилось, что война – всерьез и надолго.
По дороге в больницу Сашенька думала о родительском доме в двадцать пять комнат. У нее было странное ощущение: ей как-то не верилось, что могло быть именно так, как рассказывала мама. Конечно, она много читала о дворянских усадьбах, об особняках с бальными залами, но никогда эти усадьбы и особняки не были чем-то реальным. Скорее они были для нее неким искусственным антуражем, каким-то смутным, неясным фоном, декорацией, нарисованной на холсте, в которой двигались живые персонажи Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова. Она хотела вообразить свой родительский дом и не могла – весь опыт ее жизни противился этому. "Неужели это могло быть? – думала Сашенька. – Нет, как же это могло быть?! Зачем двадцать пять комнат? Там же можно было сделать детский сад!" Она не знала, что так и случилось, – в доме ее родителей при советской власти сделали именно детский сад, а в ее детской комнате, в которой и пожила-то она всего несколько месяцев, разместили бухгалтерию, в которой сидели две пожилые бухгалтерши и с утра до вечера бросали на костяшках счетов, сколько съедено масла, крупы, сколько пошло на усушку и утруску – с усушки, утруски и "мышьего ядения" они и кормились вместе с заведующим, хотя и детям что-то оставалось. На стене бывшей Сашиной детской висел засиженный мухами плакат: "Социализм – это учет". Так оно и было, никто с этим не спорил, хотя и не все понимали, что учитывают и для чего.
"Нет, нет, зачем же одной семье двадцать пять комнат? – думала Сашенька, подходя к родной "больничке". – Ведь, например, нам с мамой достаточно одной комнаты на двоих".
На бетонном крылечке приемного покоя ее встретила толстенькая напарница Надя, она аж пританцовывала от нетерпения, ее веснушчатое личико сияло, блудливые карие глазки лучились.
– Галушка, привет! – звонко выкрикнула Надя. – Твой вернулся!
Среди книг, принесенных когда-то Анной Карповной и Сашенькой с дворовой помойки, были и «Творения» Блаженного Августина[30]. Когда Сашеньке исполнилось пятнадцать лет, мама как бы случайно подсунула эй эту книгу. Хотя книга и была отпечатана по старой орфографии, читалась она легко:
"Имеет ли душа длину, ширину и высоту?
Помещается ли душа только в теле, как в сосуде, или она снаружи, как покрывало?
Не кажется ли тебе пустым то место, что называется памятью?"
Прочитав некоторые куски из древней книги, очень вкусно пахнущей лощеным кожаным корешком, Сашенька в особенности запомнила трактат о "количестве души" и горько сожалела, что мама не умеет читать и говорить по-русски, а стало быть, ее нельзя расспросить обо всем об этом подробно, в тонкостях.
До того дня Сашенька никогда не задумывалась о своей душе, считала, что это просто слова: "глубина души", "широта души", "чистота души", "открытая душа", "простая душа", "грязная душонка", "легко на душе", "тяжело на душе", "душа болит", "душа душу греет". Да, раньше она об этом никогда не задумывалась, а тут, во время чтения Августина, ее вдруг озарило, что все, что есть в языке народа, не случайно, а истинно и несомненно. С тех пор она стала думать о своей душе отдельно, как о сестре, если бы у нее была сестра… Она думала о своей душе: большая она или маленькая, глубокая или мелкая? И как это понимать: "душа моя обнимает весь мир", или "душа ушла в пятки"? Почему именно в пятки? Народ ничего зря не скажет – это Сашенька теперь кожей чувствовала. Как это один человек может сказать о другом человеке: "родная душа"? И почему тогда: "чужая душа – потемки"? Как это все понимать? Зачем это все? Почему это все?
Те ответы, которые давал своим собеседникам Блаженный Августин, все-таки не были абсолютными даже при всей его ораторской мощи и логике. Все-таки в самый последний момент истина ускользала из тупика однозначного познания, терялась вдруг в зыбком тумане недосказанного, таинственного и улетала в вечность, которую ни понять, ни измерить…
"Я прибыл в Карфаген, и стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви…
Любить и быть любимым – значило для меня овладеть предметом моей любви. И я мутил источник дружбы грязью похоти, туманил ее чистое зерцало адским дыханием страстей, как я хотел, мерзкий и бесчестный, в жалкой суетности своей, казаться благородным и достойным! Я жаждал весь погрузиться в любовь. Боже милосердный, сколько горечи в безмерной благости Твоей добавил Ты мне в эту сладость! Я испытал и любовь, и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед за тем – и подозрения, страхи, гнев, ссоры и жгучие розги ревности!"
Когда Сашенька прочла этот отрывок из «Исповеди» Блаженного Августина, лицо ее вспыхнуло красными и белыми пятнами, удушливый стыд охватил, казалось, всю ее с головы до ног – так пронзительно, так жестоко захотелось ей тоже "испытать любовь", захотелось "адского дыхания страстей", которые уже смутно и горячо представлялись ей по ночам, когда она металась во сне и простыня под ней скручивалась жгутом.
Она приблизилась к их облупленному круглому зеркалу на стене комнаты, взглянула и показалась себе отвратительной: какой-то толстый нос, какие-то толстые губы, какой-то низкий лоб, щеки висят – тьфу! Зубы, правда, ровные, чистые, белые. Волосы ничего. А так… плечи как у хорошего дядьки, груди вообще неодинаковые – одна больше, другая меньше, бедра какие-то неприлично крутые… Нет, нечего ей ждать от жизни – и поделом… Глаза какие-то маленькие, как щелки, – тьфу! "Боже мой, какая я уродина!" – горько подумала Сашенька. Да, ей тогда так казалось, в те лета, хотя обстояло все совсем по-другому – она была видной девочкой. Нос, конечно, припух, но это возрастное, это со всеми бывает и проходит… Лоб высокий, чистый, выпуклый, точь-в-точь как у Сикстинской мадонны, глаза большие, светло-карие, под лучом солнышка, падающего с их потолочного окошка, дымчатые, обманчиво грустные, губы красиво очерченные… нет, нет, все было совсем не так, как представлялось Сашеньке, она, правда, еще не была красавицей, но дело к этому шло. И все было у нее впереди – и любовь, и взаимность, и страсть, и "прелесть наслаждения", и горечь разлуки, и "розги ревности".
Пришла с улицы мама и радостно сказала, снимая цветастую косынку:
– Тёпло. Провесинь[31].
На дворе уже бушевал апрель. А с двенадцатого февраля Сашеньке пошел шестнадцатый год.
Блудливо сияя карими глазками и то и дело прижимаясь к Сашеньке, напарница Надя еще тараторила что-то о Домбровском, о фронте, о том, что в «затишке» при посудомойке опять родились котята, но Сашенька уже не понимала ничего, не видела, не слышала – душа ее летела далеко впереди по обшарпанным, пропахшим хлоркой больничным коридорам, мимо открытой настежь двери в каптерку Софьи Абрамовны, мимо ее сына Марка, который церемонно поклонился Сашеньке и хотел ей что-то сказать, мимо плакатов Красного Креста на грязно-зеленых стенах, – душа летела в ординаторскую, туда, где обычно по ночам они "гоняли чаи", где было средоточие их жизни. Наверное, кто-то заметит: а как же операционная? А что операционная? Операционная – это ристалище, это работа, притом такая, что ничего, кроме нее, не видишь, не слышишь, не чувствуешь, там все живут не отдельно друг от друга, а в едином порыве, единым существом.
В ординаторской Домбровского не было.
– Она на бесед в отдел кадр, – буркнул при виде Сашеньки второй дежурный хирург Карен, по прозвищу «маленький», потому что был в больнице еще Карен-большой. При этом печальные черные, влажно блестящие глаза Карена-маленького осветились таким теплом и участием, что сказали Сашеньке больше любых слов поддержки.
Сашенька была уверена, что сослуживцы ничего не знают об ее влюбленности в Домбровского, она считала, что не подает виду, хотя те, конечно, все видели и давно уже перешучивались за ее спиной. Перешучивались прежде, до несчастия с Домбровским, а с тех пор как это случилось, никто больше не хихикал по ее поводу, а все лишь молча сочувствовали ей и сопереживали вместе с ней.
Украдкой она сунула сумку с посылкой за шкаф, и в это время в ординаторскую вошел Домбровский и тут же следом хохотушка Надя.