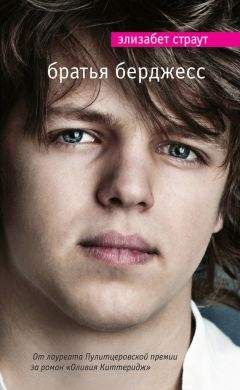откуда знаешь?
– Мне сказала старушка, которая снимает у Сьюзан комнату наверху. Говорит, слышала, как он плачет.
Джим изменился в лице, его глаза будто стали меньше.
– Она могла ошибиться, – добавил Боб. – Она вообще немного странная.
– Конечно, могла, – согласилась Хелен. – Джим, что ты будешь есть?
– Я верну машину, – пообещал Боб. – Полечу туда самолетом и пригоню ее. Когда она вам понадобится?
– Как только у тебя появится свободное время, а этого добра у тебя с избытком. Хорошо, что у бесплатной юридической помощи такой влиятельный профсоюз. Пять недель отпуска, да и не сказать чтобы на работе вы особо напрягались.
– Неправда, Джим, – тихо возразил Боб. – У нас работают очень хорошие люди.
– Тебе машет бармен. Иди уже пей свое пиво. – Голос Джима звучал снисходительно.
Боб вернулся к барной стойке. Вечер был испорчен. Он тупица, и даже Хелен на него сердита. Он поехал в Мэн и не сделал ничего полезного – выставил себя полным идиотом, поддался панике и бросил там машину. Он представил себе мощную и грациозную фигуру Элейн, то, как она сидит в своем кабинете с фиговым деревцем и терпеливо объясняет про самовоспроизведение реакции на травму, про то, что он проявляет склонность к мазохизму, подсознательно ожидая наказания за содеянное, будучи ни в чем не повинным ребенком. Посмотрев в зеркало, он встретился взглядом с рыжим вдовцом, и тот кивнул ему. Боб увидел в его глазах безмолвное узнавание одного виноватого человека другим. Рыжий сам купил жене велосипед и сам предложил покататься тем утром. Боб ответил ему кивком и отхлебнул пива.
* * *
Пэм сидела в своем любимом салоне красоты в Верхнем Ист-Сайде и, глядя на голову кореянки, склонившейся над ее ступнями, как всегда, беспокоилась, хорошо ли простерилизованы инструменты. Один раз подцепишь грибок, потом сто лет не выведешь. Ее привычный мастер, Мия, сегодня не работала, а кореянка, которая сейчас аккуратно скребла пятки Пэм, совсем не говорила по-английски. Пэм пробовала объясняться жестами, указывала на металлический ящик с пилками и ножницами и спрашивала чересчур громко: «Чистые? Да?» Потом наконец выдохнула и погрузилась в мысли. В последнее время она много думала о своей жизни в семье Бёрджессов.
Ей сначала не понравилась Сьюзан. Но только потому, что они тогда еще были так юны – совсем дети, не старше поступивших в колледж сыновей ее нынешних подруг, – и Пэм слишком болезненно реагировала на неприкрытую неприязнь Сьюзан по отношению к Бобу. В том возрасте Пэм хотела, чтобы все друг другу нравились (и особенно чтобы она всем нравилась). Тогда в кампусе в Ороно университета Мэна было принято здороваться со всеми, кого встречаешь на дорожках между корпусами, даже с незнакомыми. Хотя Боба как раз многие знали – потому что он был душой компании и потому что почти все слышали о его брате Джиме, который к тому времени уже закончил учебу, но когда-то возглавлял студенческое самоуправление и стал одним из немногих выпускников, зачисленных на юридический факультет Гарварда, да еще с полной стипендией. В общем, братья Бёрджессы были всем известны и привычны, как дубы и клены, под которыми студенты каждый день проходили с книгами в руках. (Там уцелело и несколько вязов – правда, больных, с пожухлой кроной). То время, когда рядом с Пэм был Боб и его размашистая непринужденность, навсегда осталось для нее самым чудесным, в душе у нее тогда царил восторг перед жизнью в колледже – да и вообще просто жизнью. А Сьюзан этот восторг отравляла всякий раз, когда делала вид, что их с Бобом не замечает, когда старалась пройти через другую дверь, если одновременно с ними направлялась в студсоюз. Она в те годы была стройная, хорошенькая и все время воротила от них нос. В библиотеке Фоглера она могла пройти мимо Боба и даже не взглянуть на него. «Привет, Сьюз», – говорил ей Боб, а она в ответ ни слова. Ни слова! Пэм это просто потрясало. А Боб ничуть не смущался. «Она всегда такая», – пояснял он.
Но вскоре Пэм стала ездить к Бёрджессам в Ширли-Фоллз на выходные и праздники, и будущая свекровь приняла ее со своеобразной благосклонностью, выражавшейся в том, что Барбара Бёрджесc поглядывала на Пэм как на свою, с непроницаемым лицом отпуская едкие шуточки в адрес окружающих. Тогда-то Пэм и начала жалеть Сьюзан. Она с удивлением поняла, что человека надо рассматривать как призму. Раньше она видела лишь внешнюю грань Сьюзан, совершенно не замечая того, как ее насквозь пронизывают слепящие лучи материнского неодобрения. Именно Сьюзан чаще всего оказывалась объектом злых шуточек. Именно Сьюзан молча накрывала на стол, пока Барбара расхваливала Боба, попавшего в список лучших студентов: «Да я в тебе и не сомневалась, Бобби! Всегда знала, ты-то у меня умный!» Сьюзан расчесывала длинные волосы на прямой пробор, «как глупая хиппушка». Сьюзан не следовало особо радоваться своей тонкой талии и узким бедрам, потому что «рано или поздно она, как все женщины, превратится в “Криско” – консервную банку с жиром». [5]
От своей матери Пэм ругани никогда не слышала. Но ее мать вообще держалась довольно отстраненно и без особого рвения относилась к своим родительским обязанностям. Как будто Пэм – девчонка, часами просиживавшая в местной библиотеке, читая книги и рассматривая рекламные картинки в журналах, в которых была другая жизнь, – как будто Пэм, даже когда выросла, требовала от нее слишком многого. Отец же, тихий и бесхребетный, еще меньше годился на роль проводника, способного помочь дочери преодолеть обычные препятствия на пути взросления. Именно желание вырваться из унылой атмосферы родной семьи заставляло Пэм проводить большую часть каникул у Бёрджессов, в их маленьком желтом доме на холме недалеко от центра городка. Этот дом был меньше, чем тот, в котором Пэм выросла, хотя и ненамного. Но ковры в нем вытерлись, тарелки все щербатые, а в ванной облупилась плитка, и это действовало на нервы. Очередное открытие: ее парень из бедной семьи. У отца Пэм был маленький бизнес по торговле канцелярскими товарами, мать давала уроки игры на фортепьяно. Однако дом их в Западном Массачусетсе, стоявший на краю фермерских полей, всегда содержался в порядке, и для Пэм это было чем-то самим собой разумеющимся. В доме Бёрджессов на полу лежал облезлый линолеум, задирающийся по краям, оконные рамы так перекосило от времени, что щели приходилось на зиму затыкать газетами, а в единственной ванной стоял унитаз с ржавым налетом по краю и висела выцветшая пластиковая шторка, бывшая когда-то не то красной, не то розовой. Увидев все это, Пэм подумала об одной семье в своем городе – единственной известной ей семье бедняков; на лужайке перед домом у них громоздились ржавые автомобили, дети ходили в школу чумазыми. Пэм