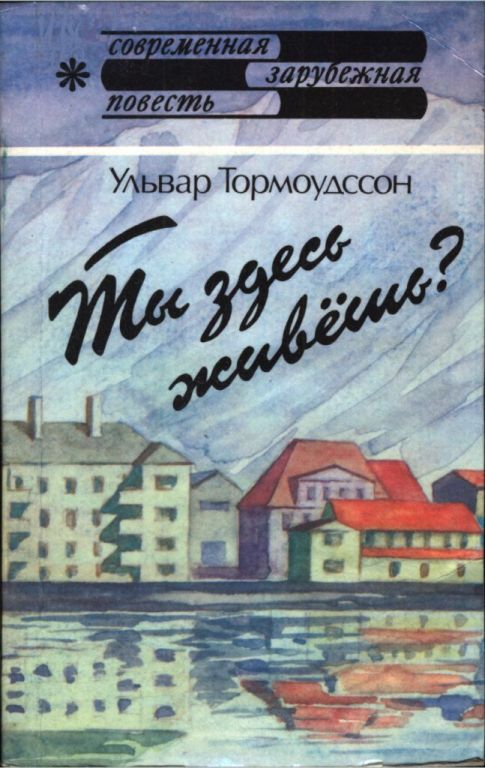так и сказал. А еще он воскликнул «Батюшки мои!», когда ты ему рассказал про книжку, ну-ну, да не волнуйся ты так. Я запомнил это выражение, так как частенько слышал его в молодости, когда сообщались важные новости. Друзья, этот писатель — ни много ни мало пророк.
Полицейский фыркнул.
— Вот ты фыркаешь, Оулавюр, — продолжал Сигюрдюр. — Твое право. Но вот послушайте, что я вам скажу. Нынешней осенью я начитал на пленку текст одного письма. Месяца два назад один человек в нашем городе напечатал это письмо на машинке. Письмо было частное. Знаю, что никто его не читал. Однако, когда я составлял его, точная его копия, которую, очевидно, следовало бы назвать оригиналом, уже была напечатана и переплетена в книжке, изданной в Рейкьявике и пролежавшей к тому времени несколько месяцев на складе. Несколько месяцев, ребята! Более того, дата на нем та же, что и на письме, которое я отправил осенью. Как прикажете это называть?
— Неужто правда? — прошептал пастор.
— У тебя нет чего-нибудь покрепче, чем это паршивое красное винцо? — спросил комиссар полиции.
— Сейчас не время пить, — отрезал Сигюрдюр. — Сейчас головой надо работать.
Пастор и полицейский, безмолвные и сникшие, прилипли к дивану, словно комки жевательной резинки.
— Предлагаю обсудить, что делать, — заговорил Сигюрдюр. — Преподобие. Твои предложения?
— Ей-богу, не знаю, — ответил пастор и сцепил пальцы. — Ничего похожего в моей жизни не бывало. Среди нас объявился пророк. Вы такое слыхали?
— Ты, Оулавюр?
— Я? Черт возьми, не знаю.
— Так я и думал. — Сигюрдюр ухмыльнулся. — Просто уверен был. Но хватит об этом. У меня есть план. Предлагаю начать сбор подписей против автора, написавшего такую книжку. Нам надо постараться закончить это до рождества и устроить общее собрание жителей Города в Доме собраний. Что скажете?
— Зачем собирать подписи, ежели все, что он написал, правда? — глухим голосом спросил Преподобие.
— Мы будем, разумеется, утверждать, что все это от начала до конца ложь. И, как я вам только что дал понять, ложь оскорбительная. Не забывайте, никто в Городе эту книжку еще не читал.
— Народ в нашем городе без труда достанет ее. Постараются, как пить дать: еще бы, такой лакомый кусочек — целая книжка, набитая сплетнями о ближнем. Уж я-то своих людей знаю, — сказал пастор.
— Об этом мы позаботимся, — ответил Сигюрдюр. — Ладно. Позже мы решим, что делать с подписями, а также как нам принять автора, когда он к нам приедет. Вы ведь не забыли, что он приезжает к Новому году?
— Еще не легче, — заметил полицейский.
Преподобие пошевелил губами. Никто ничего не услышал.
— Ты что-то сказал? — спросил сосед.
— Он хотел спросить, как это возможно, — ответил Сигюрдюр Сигюрдарсон и улыбнулся широкой, от уха до уха, улыбкой. Он прикрыл от удовольствия глаза, из кривого носа с побелевшим кончиком послышались свистящие звуки.
— Что-то я не слышал, — сказал полицейский, удивленно следя за мимикой товарища.
— Я тоже, но знал это, — отвечал Сигюрдюр. — Я даже знаю, что ты сейчас скажешь: «А ты врешь»…
— А ты врешь, — произнес полицейский как по заказу и вскочил.
Сигюрдюру стало весело. Тело его затряслось от смеха — сначала утробного, затем вырвавшегося наружу, голова закачалась, словно маятник. Смеялся он громко и долго.
Наконец он простонал:
— Не правда ли, Преподобие? — И шепнул неподвижному полицейскому: — Сейчас он скажет: «А? Чего?»
— А? Чего? — Преподобие поднял голову и посмотрел на Сигюрдюра, который снова зашелся в хохоте. — Что это с ним? — спросил он полицейского.
— Все правильно! — ответило полицейское начальство, глядя на своего товарища, который корчился и задыхался от смеха. — Ему невмоготу.
Однако Сигюрдюр Сигюрдарсон недаром был человеком уважаемым. Он выбрался из самого длительного в жизни приступа смеха, как выбирался из других периодов своей биографии. Отсмеявшись, он обратился к товарищам со следующими словами:
— Ну вот что, ребята. Сейчас я вам объясню, откуда моя прозорливость. Садитесь-ка. Я прочитаю вам главу из книжки, о которой мы говорили.
После этого Сигюрдюр начал читать главу, которая сейчас заканчивается. Он следил, чтобы товарищи не заглядывали в книжку, и очень веселился, чего никак нельзя сказать о его слушателях, по крайней мере если судить по выражению их физиономий на протяжении чтения: они сидели неподвижно и все время менялись в лице — чернели, краснели, бледнели или белели как полотно. Когда чтение закончилось, они произнесли приводимые ниже реплики:
Преподобие [18]. С меня хватит.
Оулицейский. По-моему, надо тяпнуть чего-нибудь покрепче этого поганого красного вина.
Когда они произнесли эти слова, руководитель зачитал их реплики из книги. Это их доконало.
Прибыл херес из Рейкьявика.
Его налили в хрустальные рюмки, изготовленные, проданные и купленные исключительно для того, чтобы из них пился херес.
— Хорошо. Не провозгласить ли нам тост за юбилей клуба?
Семь хрустальных рюмок поднимаются, звенят. Их пригубляют, снова ставят на стол. Слышится причмокивание. Вздохи.
Семь женщин.
Они тесно сидят вокруг стола. Белая мраморная столешница, темная каменная нога. На столе две посеребренные пепельницы, настольная зажигалка в виде мраморного Аполлона, бутылка хереса с белым бумажным жабо на горлышке и другая наготове в плетеной корзинке, подставки для рюмок из китовой кости и семь хрустальных рюмок. Четыре женщины сидят на слегка изогнутом угловом диване, обтянутом желтым плюшем. Напротив них, на стульях, — три другие.
Люстра, висящая примерно в метре над столом, отбрасывает неверный свет на убранство и на присутствующих, на желто-зеленые стены под зеленым потолком, который от этого кажется еще более зеленым — можно сказать, бесконечно зеленым и далеким.
Картины в больших резных золоченых рамах, проданные как творения старых мастеров, продуманно развешаны на стенах. На окнах плюшевые шторы. У фасадной стены, почти возле окна, стоит рояль. Между окном и роялем торшер с выпуклым стеклянным абажуром. На фасадной стене ковер, подсвеченный с двух сторон. В углу белая статуя Афродиты. Ничего лишнего. Никаких пустот. Научно рассчитанная гостиная.
— А какого, собственно говоря, цвета ковер, милая Уна? — спрашивает женщина № 2.— Когда зажжена эта великолепная, так и хочется сказать, божественная люстра, цвет ковра не разглядишь. Откуда она у тебя?
— Ковер некрашеный, он только протравлен, милая моя номер два. Мне не нравятся ковры с узорами, — произносит Уна и для вящей убедительности вздергивает свой курносый нос. — А у тебя, кажется, ковер с узором, милая моя номер пять?
— Муж во что бы то ни стало хотел именно тот, что у нас, и никакой другой, — отвечает № 5.— Черт, пришлось уступить. А мне он не нравится. Ни капельки.
— Ни капельки не нравится, — говорит женщина № 1.
— Понимаю, — кивает № 2.—