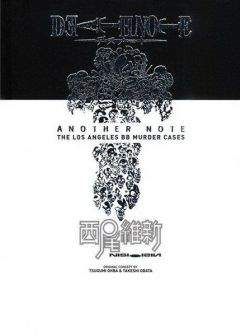— О, дубина! О, добрая христіанская душа! О, истуканъ деревянный, разсуждающій о котлѣ восточнаго вопроса! Какъ глупы и безсмысленны всѣ наши эти греки, всѣ эти попытки Ѳукидидовъ и Солоновъ, и самихъ чертей, когда они говорятъ о политикѣ! Ты замѣть… Нѣтъ, я тебѣ говорю, ты замѣть, какую лукавую рожу дѣлаетъ этотъ Би́чо, и глазъ одинъ… о, Маккіавель! и глазъ одинъ прищуритъ, и палецъ къ виску указательный приложитъ, когда говоритъ о восточномъ вопросѣ… Ха, ха, ха! «Мы дипломаты, значитъ насъ не обманетъ никто!..» О, дубина! О, Валаамова ослица, одаренная словомъ! Замѣтилъ ты, какъ они разсуждаютъ? Заболѣлъ французскій консулъ лихорадкой. «А! Интрига! Пропаганда! Восточный вопросъ!» Выздоровѣлъ русскій консулъ отъ простуды. «А! демонстрація! Восточный вопросъ!» Пріѣхалъ австрійскій консулъ, уѣхалъ англійскій. «Ба! Мы знаемъ мысли этого движенія; отъ насъ, грековъ, ничто не утаится. Мы эллины! Мы соль земли!» О, дурацкія головы! О, архонтскія головы!
— Перестань, докторъ, — сказалъ ему на это отецъ. — Вѣдь и ты архонтъ янинскій. Всѣ люди съ вѣсомъ и положеніемъ въ городѣ зовутся по-эллински архонтами.
— Я? я? Архонтъ? Никогда! я могу быть бей, могу быть аристократъ, могу быть, наконецъ, ученый. Но архонтъ янинскій… о, нѣтъ!…
Съ этими словами докторъ обратился къ образу Божіей Матери и воскликнулъ, простирая къ нему руки, съ выраженіемъ невыразимаго блаженства въ лицѣ:
— О, Панагія! будь ты свидѣтельницей, какъ я былъ радъ и какъ мнѣ было лестно слышать, когда мой другъ Благовъ говорилъ мнѣ, что въ Янинѣ есть только два замѣчательные и занимательные человѣка, это — ходжи-Сулейманъ, дервишъ, и докторъ Коэвино.
— Да, да! — продолжалъ онъ потомъ, грозно наскакивая то на отца, то на меня, то на Гайдушу, которая стояла у дверей. — Да, да! Я вамъ говорю, ходжи-Сулейманъ и я. Да! Одинъ уровень — ходжи-Сулейманъ и я. Но только не съ Бакыръ-Алмазомъ и Куско-беемъ я сравню себя… Нѣтъ, нѣтъ! я вамъ говорю: нѣтъ, нѣтъ!
Наконецъ бѣдный отецъ уже и самъ закричалъ ему въ отвѣтъ:
— Хорошо! довольно! вѣримъ, дай отдохнуть!
И тогда только взволнованный докторъ замолчалъ и нѣсколько успокоился.
Что́ за несносный человѣкъ, думалъ я, все онъ судитъ не такъ, какъ другіе люди. Никого изъ своихъ соотечественниковъ не чтитъ, не уважаетъ, не хвалитъ. Не зависть ли это въ немъ кипитъ при видѣ ихъ богатства, ихъ вѣса въ Портѣ и митрополіи, при видѣ ихъ солидности? За что́ напалъ онъ теперь на г. Би́чо, на человѣка столь почтеннаго? Что́ жъ, развѣ не правда, что восточный вопросъ похожъ на котелъ, который стоитъ и варится? Очень похожъ. И къ тому же Би́чо человѣкъ семейный, какъ слѣдуетъ, жена, дочка, два сына; домъ хорошій; патріотъ, хозяинъ; не съ Гайдушей какой-нибудь открыто живетъ (всѣ это знаютъ и понимаютъ! И стыдъ, и грѣхъ, и безчестіе имени) Би́чо-Бакыръ-Алмазъ живетъ съ женой законною, которая была одною изъ первыхъ красавицъ въ городѣ когда-то; она женщина и добродѣтели непреклонной; ей одинъ турецкій ферикъ или муширъ35 въ ея молодости предлагалъ двѣсти лиръ въ подарокъ, и она не взяла, отвергла ихъ и осталась вѣрна своему мужу.
Имѣніе еще недавно новое они купили въ горахъ; говорятъ, вода тамъ превосходная ключевая и лѣсъ значительный.
Нѣтъ, Коэвино все блажитъ и хвастается. Я увѣренъ, что г. Благовъ уважаетъ Бакыръ-Алмаза больше, чѣмъ этого, можетъ быть и не злого, но все-таки безпутнаго Коэвино. Хороша честь съ юродивымъ дервишемъ быть на одной степени! Безумный Коэвино!
Въ домѣ у Би́чо мнѣ также очень понравилось. Такой обширный, хозяйскій домъ; дворъ внутренній устланъ большими плитами; цвѣты и кусты хорошіе на дворѣ; весной и лѣтомъ, вѣроятно, они прекрасно цвѣтутъ. Покоевъ множество, ливаны просторные, старинные, кругомъ, ковры, зеркала большія, портреты европейскихъ государей. Супруга пожилая, почтенная, въ черномъ шелковомъ платьѣ и въ платочкѣ. Идетъ отъ дверей къ дивану долго, тихо, какъ прилично архонтисѣ; точно такъ же какъ и мужъ, говоритъ не торопясь и съ достоинствомъ. И во всемъ она согласна съ мужемъ, во всемъ она ему вторитъ и поддерживаетъ его.
— Погода хороша; но скоро начнетъ портиться, — замѣтилъ мужъ. — Зима. «Зимой всегда погода портится», — подтвердитъ и она. Мужъ едва успѣетъ вымолвить: «Наполеонъ — прехитрѣйшая лисица!» а она уже спѣшитъ поддержать его и говоритъ съ негодованіемъ: «Ба! конечно, его двоедушіе всѣмъ извѣстно».
И я, внимая рѣчамъ этихъ почтенныхъ людей, радовался на ихъ счастье и думалъ про себя, сидя скромно въ сторонѣ: «Не шумятъ и не говорятъ эти люди съ утра до ночи, какъ докторъ, но что́ ни скажутъ они, все правда. Правда что и погода къ зимѣ всегда портится, это и я замѣчалъ не разъ, правда и то, что хитрость императора Наполеона всѣмъ извѣстна!»
Тогда, конечно, я не могъ предвидѣть, что Бакыръ-Алмазъ и жена его будутъ со временемъ мнѣ тесть и теща, и что въ этомъ самомъ обширномъ домѣ, въ этой комнатѣ, гдѣ я теперь такъ почтительно молчалъ, сидя на краю стула, будетъ уже скоро, скоро — о! какъ быстро льется время! — будетъ здѣсь въ честь мнѣ, именно мнѣ, гремѣть музыка громкая, будутъ люди пѣсни пѣть, прославляя меня, и вино пить, и ѣсть, и веселиться, и дѣти будутъ ударять въ ладоши, прыгая съ криками по улицѣ при свѣтѣ факеловъ вокругъ моей невѣсты.
И даже невѣста моя будущая подавала мнѣ сама тогда варенье и кофе, и я смотрѣлъ на нее разсѣянно и думалъ: «дочка, однако, у нихъ не такъ-то хороша. Худа слишкомъ и очень блѣдная». Вотъ что́ я думалъ, принимая угощеніе изъ ея рукъ.
И точно, маленькая Клеопатра была собой непривлекательна, личико у ней было какъ будто больное, сердитое или испуганное. Ей было тогда тринадцать лѣтъ, и не пришло еще время скрываться, по эпирскому обычаю, отъ чужихъ мужчинъ до дня замужества.
Когда она внесла варенье, Бакыръ-Алмазъ сказалъ отцу моему:
— Это дочь моя, Клеопатра.
— Пусть она живетъ у васъ долго, — отвѣтилъ отецъ.
Потомъ Бакыръ-Алмазъ велѣлъ поставить подносъ и сказалъ:
— Она знаетъ сатирическіе стихи на нынѣшнее правительство короля Оттона. «О, доколь саранча чужестранная… Доколѣ, о греки, баварецъ глухой36… Несчастной отчизны…» Садись, Клеопатра, и спой эту пѣсню; почти нашихъ гостей.
Клеопатра молчала.
— Спой, Патра, когда отецъ желаетъ. Почти гостей, — подтвердила мать.
Но Клеопатра вышла тотчасъ же изъ комнаты, не говоря ни слова и съ недовольнымъ видомъ.
«Некрасивая и непослушная дѣвочка», — подумалъ я тогда, и тѣмъ кончилось наше первое свиданіе. Съ того дня я ее почти до самой свадьбы моей не видалъ, ибо вскорѣ послѣ этого ее уже перестали пускать въ пріемную при мужчинахъ.
Въ первое воскресенье, которое пришлось послѣ нашего пріѣзда, мы съ отцомъ были въ митрополіи у обѣдни.
Стараго митрополита нашего я видѣлъ не въ первый разъ. Года полтора тому назадъ онъ объѣзжалъ Загорье: служилъ обѣдню въ нашемъ Франга́десѣ. Я при немъ пѣлъ и читалъ Апостола; онъ далъ мнѣ цѣловать свою руку, хвалилъ мое усердіе и сказалъ мнѣ: «Вотъ ты начинаешь жизнь свою службой при храмѣ. Начало доброе; смотри, чтобы птицы злыя не расклевали эти благія сѣмена. Не связывайся никогда съ безумными юношами твоего возраста! Турокъ и тотъ хорошо говоритъ: «Дели-базаръ — бокъ базаръ»; то-есть — общество безумныхъ есть рынокъ грязи».
Я поклонился ему въ ноги и еще разъ поцѣловалъ старческую дрожащую его десницу. Краткая встрѣча эта, эта торжественная епископская служба, которую я въ первый разъ видѣлъ въ нашей загорской церкви, милостивое вниманіе, которымъ отличилъ меня преосвященный Анѳимъ отъ другихъ моихъ сельскихъ сверстниковъ, все это оставило въ сердцѣ моемъ глубокое впечатлѣніе, и я ужасно обрадовался, когда увидалъ, что преосвященный еще бодръ и крѣпокъ на службѣ. Онъ былъ росту огромнаго, и бѣлая короткая борода очень шла къ его полному и очень красному, но предоброму и даже иногда немного застѣнчивому лицу.
Послѣ обѣдни мы зашли къ нему и застали у него нѣсколько янинскихъ старшинъ. Казалось, полное, примѣрное согласіе царствовало между архипастыремъ и мірскими богатыми представителями христіанской общины. Архонты (въ ихъ числѣ былъ и Би́чо) почтительно цѣловали его руку, низко ему кланялись, подавали ему туфли, говорили безпрестанно «преосвященнѣйшій», «отче святый»; улыбались ему: онъ имъ тоже всѣмъ улыбался и, прикладывая руку къ сердцу, называлъ то одного, то другого съ большимъ, повидимому, чувствомъ «благословенный ты мой!» Я радовался.
Однако скоро разговоръ принялъ не совсѣмъ любезное направленіе, а одно слово преосвященнаго и мнѣ показалось очень колкимъ. Одинъ изъ архонтовъ спросилъ его, доволенъ ли онъ послѣднимъ своимъ путешествіемъ по епархіи. Преосвященный вздохнулъ, подумалъ и переспросилъ его: «доволенъ ли я путешествіемъ по епархіи?» Еще разъ вздохнулъ и сказалъ наконецъ вотъ что:
— Всякое путешествіе, благословенный мой, поучительно чѣмъ-нибудь. Въ этотъ разъ я видѣлъ нѣчто, весьма полезное, видѣлъ людей, которые пасли овецъ и другихъ людей, которые за свиньями смотрѣли. Боже мой, — думалъ я, — какая благодать кроткихъ овечекъ пасти! Всѣ онѣ вмѣстѣ, всѣ согласны, куда одна, сердечная, бѣжитъ, бѣгутъ и другія. Пастырю доброму и радость. Совсѣмъ иное дѣло свинья. Пасти свиней это мука адская; съ утра выгнали ихъ вмѣстѣ, а къ вечеру уже и собрать ихъ нельзя; онѣ всѣ разбѣжались по рощѣ. Тогда что́ долженъ дѣлать бѣдный пастухъ? Онъ раскалываетъ небольшую палочку, ловитъ одну свинью и ущемляетъ ей ухо. Услышавъ только визгъ этой свиньи, и вся остальная скотина сбѣгается въ ту сторону! Вотъ что́ я видѣлъ, и на многія мысли навело меня подобное зрѣлище, благословенный ты мой.