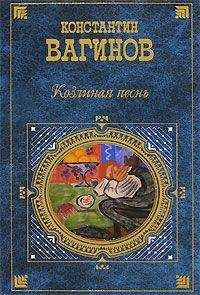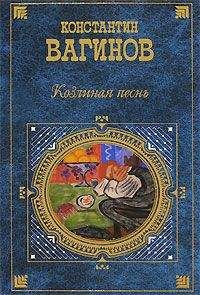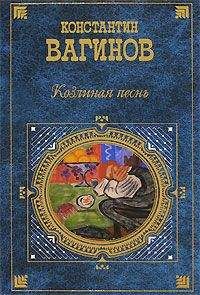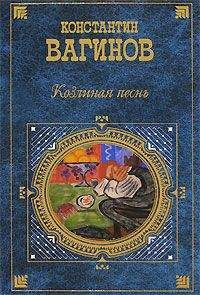Наступившая белая ночь, дрожащая, похожая на испарение эфира, все более опьяняла его. Фигуры, достаточно отчетливые, шли по панели. Изредка проносились автомобили с нарядными существами. Затем все смолкло. В окнах некоторых ювелирных магазинов часы показывали точное время. О том, что это точное время, гласили горделивые надписи. Он вошел в гостиницу.
Глава XXXII ТРОИЦЫН
Шел Троицын, прослезился. Он очень любил Петербург. Для него некогда город был Сирином Райской Птицей, звал его город своими огнями.
Раньше Троицын чувствовал Петербург сказочным городом, русским городом. Чем же Успенский собор в Москве не русский, хотя строил его иностранец? Или св. Софии в Киеве? В Петербурге русские Манон Леско, Дамы с камелиями выходили любоваться на Неву, на плывущие жемчуга.
Здесь сказки Перро и богемная жизнь с гитарами и балалайками. Здесь были маскарады с огнями, подобными яхонтам. Пусть теперь Троицын танцует на балах, пусть он читает на рассвете старые стихи свои подстриженным девушкам и дамам, пусть, подходя к зеркалу и гарцуя, он самодовольно улыбается, но, незаметно для всех, в нем умерла Сирин Птица.
Хотя барышня смеялась на балу над Троицыным, она на улице все же согласилась и пошла с ним. Не потому, что он поэт, и не потому, что ее бросил кто-либо, а потому, что - почему же не пойти.
У ней были как пакля волосы, вишневые губки и голубенькие глазки. На ее тощей фигурке болталось коротенькое платье с парчовой грудкой, а на мизинце бутылочным стеклом пустел хризолит.
Троицын не угощал барышень вином, он их не опаивал. Приведет в свою комнату, достанет шкатулку и начнет показывать всякие поэтические предметы. Так было и на этот раз, но все же в комнате было уютно. Во дворе белая ночь, тихая, тихая. По стенам снимки с Кремля, и Манон Леско, и гравюра блудного сына. А на постели сидя целует Троицын барышню, и сапоги его стоят у стула, рядом с туфельками барышни.
И заря осветит их головы рядом на подушке с открытыми ртами, тихо похрапывающих в разные стороны и держащих друг друга за руки. И может быть, во сне она увидит свою семейную жизнь, а он - поля, небольшую речку и себя гимназистом.
В эту ночь смотрел Агафонов из окна гостиницы на просторный проспект, на белую петербургскую ночь. Сел за столик, выпил пивца, положил листок и стал читать свои последние стихи вслух. А когда прочел, то ясно увидел, что стихи плохи, что юношеский расцвет его кончился, что с падением его мечты кончилась его жизнь. Он пососал, неизвестно для чего, дуло револьвера, отошел в уголок комнаты и выстрелил в висок.
Троицын спал в постели с барышней, когда Миша Котиков, бросив все дела, прибежал стучаться. Троицын в наскоро натянутых брючках вышел в прихожую.
- Ах, какое потрясающее происшествие! Сегодня ночью в гостинице Бристоль застрелился последний лирик. И вдруг заплакал Троицын. - Всех нас ждет такая же участь. Я ведь тоже последний лирик.
Забыв о барышне, он отправился вместе с Мишей Котиковым в гостиницу.
Поцеловали они покойника в лоб и заплакали, и, сморкаясь, незаметно стянул Троицын галстук и положил в карман, а Миша Котиков вынул из манжет голубенькие эмалированные запонки покойного и спрятал их в портсигар, и, спрятав, они переглянулись и почувствовали себя несколько удовлетворенными и успокоенными.
И тогда Троицын вспомнил о своей барышне и побежал домой и стал извиняться.
- Какое же это уважение, - сердилась барышня, - оставлять женщину одну?
Но когда узнала и увидела Троицына плачущим и рассматривающим галстук, то тоже заплакала.
Воскресный день. Утро.
- У меня экзотическая профессия, - говорит Миша Котиков, идя рядом с Екатериной Ивановной по шумящему парку. - Все время приходится возиться с золотом и серебром и даже с жидким серебром. Стоишь и видишь внизу перстень на пальце - изумруд какой-нибудь - и видишь какую-нибудь страну, где ,все увешано изумрудами, - танец живота возникает. Или придет молодой человек с бирюзой на мизинце, подбираешь ему по цвету зубы, а сам думаешь о Персии, о знойных движениях. Я моей мечтой создаю здесь Африку. Не правда ли, я сильный человек, Екатерина Ивановна?
- Только зачем же вы избрали эту профессию?
- Не я ее избрал, она меня выбрала, - покачал головой Миша Котиков. - Думал я сначала, что это все так, пустяки, временный заработок, вечерние курсы, а потом зубным врачом оказался.
- Мой брат вот сапожник, а какой он сапожник, когда он кавалергард.
И тихо, тихо по парку идут Миша Котиков и Екатерина Ивановна.
Дорожки Павловского парка тихи и безлюдны. Здесь Миша Котиков когда-то ездил на трехколесном высоком велосипеде.
- Мы, конечно, были угнетатели, - говорит он и чувствует, что распропагандирован.
И тихо, тихо идут они. Полдень.
В оживившемся центре города вздыхает Троицын о великой любви Дон-Жуана, смотря на прибывшую весну во двор. Прыгают дети, обрадованные весной.
Он видит, как открываются форточки и высовываются сырые детские головы со слабыми волосиками, а затем скрываются. Ручки дверей шевелятся, появляются на нетвердых ногах дети.
День.
Над каналом, против Домпросвета ходит Костя Ротиков по аукционному залу и читает сонник. Две-три фигуры неторопливо прохаживаются и осматривают выставленные вещи.
Листья шумят за стеклом. Белесое небо постепенно темнеет.
Костя Ротиков взглянул на часы - пора закрывать.
Запоздавшие спускаются по лестнице. Он сходит вниз. Что-то говорит привратнице. Он едет в трамвае и думает о том, что жизнь прекрасна, что, в общем, его работа не тяжела, что, в общем, даже интересно покупать дешево фарфор и картины, а затем выставлять их в аукционном зале, что случайно им купленная и перепроданная чашечка дает возможность жить.
Он входит в дом и осматривает вещи. Хозяйка, некогда присвоившая фарфор исчезнувших господ, выходит замуж, уезжает, все продает.
"Ну с этой стесняться нечего", - думает Костя Ротиков и покупает несколько безделушек за бесценок.
Ему хочется рассмотреть свою покупку, нюх у него тонкий, он знает, что купил уважаемые всеми вещи. Кладбище недалеко, он расставляет там чашечки и фигурки на скамейке, садится на корточки. "Дорогой сакс", - бормочет он.
Птицы заливаются на деревьях. Он упаковывает. Принимается читать сонник.
Чудно опускает он книжечку на колени и поднимает глаза к птицам, тепло мещаночки поют.
Затем он начинает гулять и рассматривать надгробные памятники и читает эпитафии. Перед одной он начинает прыгать и ржать. Твоя любовь была ко мне безмерна, Я ею наслаждался как супруг.
Вынимает книжечку и записывает.
Вечер.
Ковалев идет с молодой женой в оперетку. Вчера он встретил Наташу. Наташа уезжала за границу на два месяца.
"Да, - подумал, - она устроилась".
По вечерам Миша Котиков рисовал - ведь рисовал в свое время Александр Петрович. Старался Миша Котиков брать те же краски, писать теми же тонами, по возможности теми же кистями. Они нашлись в комоде Екатерины Ивановны. Кроме того, он добывал заграничные краски у бывших любителей, детей богатых семейств, и по вечерам он сидел с кистью в руке перед мольбертом, а когда уставал рисовать, читал книжки, которые любил читать Заэвфратский. Вся жизнь для него была в образе Заэвфратского.
Чудный вечер.
Солнце садится.
Марья Петровна в избушке на примусе кипятит молоко.
Стрекочут кузнечики. Переливается озеро.
- Нет, хорошо в деревне летом. Тептелкин с открытым воротом, широкогрудый, сидит в туфлях перед избушкой и чертит палочкой с рукояткой, украшенной обезьянами, на песке какие-то фигуры.
Глава XXXIII МЕЖДУСЛОВИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ АВТОРА^
Я дописал свой роман, поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой - четыре.
Затем взял роман и поехал в Петергоф перечитывать его, размышлять, блуждать, чувствовать себя в обществе моих героев.
От вокзала старого Петергофа я прошел к башне, присмотренной мной и описанной. Башни уже не было.
Во мне, под влиянием неблеклых цветов и травы, снова проснулась огромная птица, которую сознательно или бессознательно чувствовали мои герои. Я вижу своих героев стоящими вокруг меня в воздухе, я иду в сопровождении толпы в Новый Петергоф, сажусь у моря, и, в то время как мои герои стоят над морем в воздухе, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними.
Возвратившись в город, я хочу распасться, исчезнуть, и, остановившись у печки, я начинаю бросать в нее листы рукописи и поджигать их.
Жара.
Я медленно раздеваюсь, голый подхожу к столу, раскрываю окно, рассматриваю прохожих и город и начинаю писать. Я пишу и наблюдаю походку управдома, и как идет нэпманша, и как торопится вузовка. Забавляет меня то, что я сижу голый перед окном, и то, что на столе у меня стоит лавр с мизинец и кустик мирта. А между ними чернильница с пупырышками и книги, всякие завоевания Мексики и Перу, всякие грамматики.