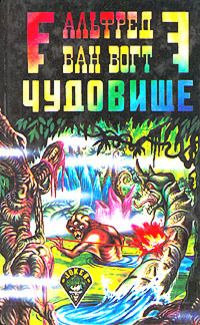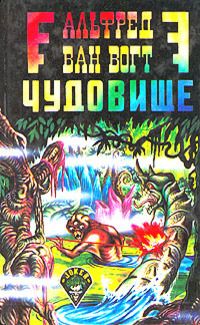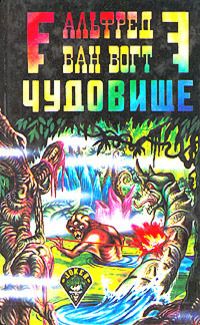— Что смотрите, какъ мы обнимаемся? — обратился Евстигней Егорычъ къ Манечкѣ и Матрешенькѣ
— Братцы, вотъ моя дочь и ея подруга, рекомендую; братцы посватайте женишковъ-то, ужъ больно имъ замужъ-то хочется.
«Изволь, изволь», послышались голоса, и компанія захохотала.
— Что ты дѣвицъ-то страмишь, Евстигней Егорычъ, замѣтила Пелагея Степановна.
— Ну, ужъ ты молчи, я знаю, что я дѣлаю. Гаврюшка, вотъ тебѣ цѣлковый-рубль, бѣги до погреба, возыми бутылку рому ямайскаго лучшаго; да смотри, живымъ манеромъ. Пунштиковъ выпьемъ, обратился онъ къ гостямъ.
— Не много-ли будетъ?
— Пейте! вѣдь влѣзетъ…
— Извѣстно, влѣзетъ, да все-таки…
— Ну, ужъ не разговаривай. А теперь водки выпьемъ.
Чрезъ нѣсколько времени принесенъ былъ ромъ и сдѣлавъ пуншъ.
— Вѣдь я брата поминаю, поймите вы это, говорилъ уже коснѣющимъ языкомъ Евстигней Егорычъ; на глазахъ его были слезы. — Брата роднаго, можно сказать, отца втораго… конечно, Богъ ему судья, все-таки онъ мнѣ добро сдѣлалъ…
— Это точно… отвѣтилъ гость, отеръ слезу и покачнулся.
— Примѣромъ онъ бывало скажетъ… Евстигней… ты, говоритъ, скотина, такъ примѣромъ, къ слову ежели, и я молчу… потому, пикни чуть слово, сейчасъ за волосья.
Евстигней Егорычъ размахнулъ руками, какъ-будто дѣйствительно кого-нибудь хотѣлъ схватить за волосья.
Въ это время къ ихъ полисаду подошла Ивановна съ Антиповымъ.
Антиповъ былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, одѣтый по-нѣмецки и въ лиловыхъ брюкахъ. Волосы его до того были напомажены, что казалось, съ нихъ капало. На шеѣ у него висѣла массивная золотая цѣпь, а на указательномъ пальцѣ правой руки сверхъ зеленой перчатки блестѣлъ брилліантовый перстень.
— Хлѣбъ да соль, проговорила Ивановна.
— Милости просимъ, отвѣтила хозяйка.
Сваха съ женихомъ прошли мимо.
— Евстигней Егорычъ, сейчасъ пройдетъ Ивановна съ женихомъ, такъ проси его къ намъ, шепнула Пелагея Степановна мужу — это Антиповъ, онъ къ Манечкѣ сватается.
Но Евстигней Егорычъ уже ничего не слыхалъ, онъ еще съ большимъ жаромъ разсказывалъ гостямъ о благодѣяніяхъ своего брата. Пелагея Степановна рѣшилась пригласить ихъ сама.
Минутъ чрезъ пять женихъ и сваха снова прошли мимо.
— Что все гуляешь, Ивановна, да ноги топчешь, поди, ужъ умаялась? Зашла-бы отдохнуть, — проговорила Пелагея Степановна.
— Да я не одна, родная, а съ кавалеромъ, вотъ все могилку знакомаго отыскиваетъ.
— Вмѣстѣ милости прошу къ нашему шалашу!
Они вошли въ полисадъ. При входѣ ихъ Манечка такъ и зардѣлась, вынула изъ кармана платокъ и изо всей силы начала сморкаться въ него.
— Чѣмъ подчивать-то: чайку, кофейку, мадерки, али пунштику желаете?
— Хмѣльнаго не употребляю-съ, а чашку чаю выпью.
— Не пьетъ, не пьетъ, ничего не пьетъ! шепнула Ивановна Пелагеѣ Степановнѣ.
— Что у васъ здѣсь тоже могилки сродственниковъ есть? спросила это Пелагея Степановна.
— Есть-съ, у насъ во второмъ разрядѣ-съ, только нашихъ тамъ никого нѣтъ-съ, тятинька въ отсутствіи, а родительница третій годъ померла-съ.
— Вотъ что въ сѣренькомъ-то платьѣ съ малиновой оборкой дочь ихъ и есть, а та ейная подруга, — шепнула ему Ивановна.
— Сколько здѣсь сегодня народу! — начала снова Пелагея Степановна! — халдѣевы здѣсь. Вы ихъ знаете?
— Знаю-съ; мы съ ними дѣла дѣлаемъ-съ.
— А вы чѣмъ торгуете?
— Рыбой-съ, у насъ садки… Сколько народу-съ, въ прошломъ году и половины не было-съ.
Евстигней Егорычъ и не замѣчалъ новопришедшаго гостя; онъ еще больше размахивалъ руками. Они уже пили по третьему стакану пуншу.
— Что, солнышко, воюешь, что воюешь, хоть-бы угостилъ чѣмъ, говорила ему Ивановна, — вишь, какъ толкаешься.
— А ты не вертись!
— Чего не вертись, ты-бы вотъ взялъ рюмку настоечки да и поднесъ-бы мнѣ…
— Жирно будетъ…
— Что-жъ, я такая же гостья…
— Какая ты гостья, шмоль! Уйди! нѣтъ — пришибу! Нечего по чужимъ могиламъ таскаться!…
— Охъ какой грозный, право, словно Иванъ Грозный!
Евстигней Егорычъ счелъ это наименованіе за обиду.
— А коли я Иванъ Грозный, такъ пошла вонъ! Только-бы брюхо чужимъ добромъ набивать! Да еще народу съ собой разнаго водишь. Пошла вонъ, и ты, молодецъ проваливай. Не проѣдайся, не проѣдайся!
— Матушка, Пелагея Степановна, на что же похоже? сперва пригласили, а послѣ вонъ гоните!
— Не задержали-ли?
Пелагея Степановна всплеснула руками. Антиповъ поставилъ чашку на могилку и опрометью бросился вонъ изъ полисада.
— Ахъ батюшки, срамъ какой! Евстигней Егорычъ, Христосъ съ тобой, что ты… что ты… вѣдь это женихъ Манечкинъ.
— Все равно, вонъ ихъ! вонъ ихъ! Пошла вонъ!
— Вонъ, вонъ! заорали, слѣдуя его примѣру, и двое гостей.
Другіе гости, менѣе пьяные, начали ихъ останавливать.
— Ахъ, папенька, что съ вами, сквозь слезы говорила Манечка.
— Такъ, такъ-то вы принимаете, — завопила Ивановна, — такъ-то вы гостей угощаете: сначала и такъ и сякъ, Ивановна и такъ и сякая, посватай, а послѣ вонъ гнать; спереди лижите, сзади царапаете! Нога моя у васъ не будетъ; на весь Питеръ разславлю; кой-что и о тебѣ, голубчикъ, знаю… по всѣмъ закоулкамъ раззвоню!..
— Уйди, нѣтъ — пришибу! заоралъ Евстигней Егорычъ и размахивая руками, бросился за нею, но сваха была уже за полисадомъ. Онъ задѣлъ за самоваръ и опрокинулъ его. Сдѣлалась всеобщая суматоха: Евстигней Егорычъ ругался, гости и жена останавливали его. Петенька ревѣлъ, а Гаврюшка, чтобы унять его, трубилъ передъ нимъ въ самоварную трубу. Проходящіе по мосткамъ останавливались, смотрѣли на это происшествіе и дѣлали догадки по поводу шума; одни говорили, что украдены серебряныя ложки, а другіе, что у самаго бумажникъ съ деньгами вытащили.
Тотчасъ же послѣ этого происшествія семейство Крыжовникова начало собираться ѣхать домой, но большихъ трудовъ стоило на это сговорить Евстигнея Егорыча. Часамъ къ пяти только успѣли отыскать карету, положить въ нее посуду, впихнуть туда главу семейства и сѣсть самимъ.
— Вотъ тебѣ и женишокъ! Вотъ тебѣ и выгодный женишокъ! Вотъ тебѣ и рыбные садки! А какой человѣкъ-то славный, — богачъ вѣдь!.. говорила ѣдучи домой, Пелагея Степановна. На глазахъ ея были слезы.
— Ахъ, маменька, ужъ не говорите лучше!… просила дочь.
Остальные всѣ молчали.
Евстигней Егорычъ не слыхалъ этого разговора; онъ храпѣлъ на всю карету.
Въ лѣтнемъ саду весь Апраксинъ былъ въ сборѣ. Не быть на этомъ гуляньѣ апраксинецъ считаетъ противъ совѣсти. Въ новыхъ блестящихъ цимерманахъ, подъ руку съ своими дражайшими половинами и дщерями въ богатыхъ шляпкахъ и платьяхъ прогуливались они по аллеямъ сада, то и дѣло раскланивались съ знакомыми. Вотъ идетъ подъ руку съ своей супругой Черноносовъ (лицо его и на гуляньи сохранило пасмурный видъ), далѣе Блюдечкинъ съ сыномъ и дочерью, Харлазювъ, Козявинъ с женами, Затравкинъ съ нафабренными усами и въ красномъ галстукѣ, фертики въ пестрыхъ брюкахъ, молодые Бирюковы — ну, словомъ всѣ наши знакомые, даже старовѣры-братья Опалетшны и тѣ искусились, потѣшили бѣса, пришли на гулянье. Все шло хорошо, играла музыка, плавно выступали гуляющіе, при встрѣчѣ съ знакомыми мужчины кланялись, женщины обозрѣвали другъ на другѣ наряды и силились найти въ нихъ какой-нибудь недостатокъ, чтобъ назавтра былъ матеріалъ для сплетенъ; сынки сговаривались махнуть на минерашки и выискивали удобнаго случая, какъ-бы отстать отъ родителей. Случай этотъ вскорѣ-же представился, но они сами уже не хотѣли имъ воспользоваться.
Въ концѣ пятаго часа кто-то проговорилъ слово: «пожаръ.» У апраксинцевъ кровь прилила къ головѣ. «Гдѣ горитъ, гдѣ горитъ?» съ испугомъ спрашивали они. «Апраксинъ дворъ горитъ!» послышалось гдѣ-то. «Апраксинъ горитъ! Рынокъ горитъ! Горимъ!» пронеслась съ быстротою электрическаго тока ужасная вѣсть по лѣтнему саду, сдѣлалось страшное смятеніе. Мужчины побросали своихъ женъ и бросились къ выходу; все бѣжало и ѣхало на пожаръ. Сначала Апраксинцы все еще не вѣрили, но какъ достигли невскаго проспекта, и картина ужасной дѣйствительности представилась ихъ глазамъ: изъ самой средины Апраксина вылеталъ страшнымъ столбомъ черный дымъ. Въ ужасѣ несли и везли изъ пламени торговцы свои товары… но я бросаю перо… сердце сжимается при описаніи такого несчастія. Нѣкоторые торговцы бросались прямо въ огонь и съ опаленными волосами были выносимы оттуда. Уже всѣ рѣшили, что Апраксину спасенія нѣтъ, какъ вдругъ узнали нѣкоторые, что загорѣлись ихъ жилища.
Наступила ночь, а Апраксинъ все еще горѣлъ; бѣдные торговцы въ безмолвномъ ужасѣ стояли и глядѣли, какъ горѣло и тлѣлось ихъ имущество, скопленное нѣсколько-лѣтнимъ трудомъ и можетъ быть рядомъ лишеній. Наступило утро. Взошло солнце и освѣтило ужасную картину; тамъ, гдѣ кипѣла дѣятельность, гдѣ стояли сотни лавокъ, набитыя товаромъ, гдѣ тысячи торговцевъ зарабатывали себѣ хлѣбъ, было гладкое поле; только кой-гдѣ на землѣ тлѣлись уголья, да стояли почернѣлые остовы каменныхъ строеній и придавали еще болѣе ужаса этой страшной картинѣ разрушенія.