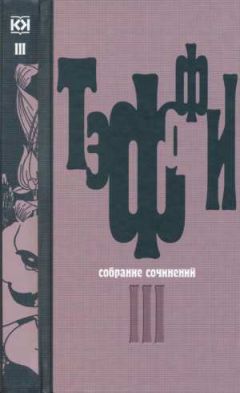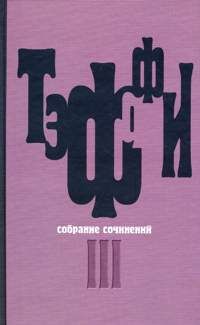Прислушалась.
Ей казалось, что в воздухе еще гудит пасхальный звон. Нет, это был рожок автомобиля.
Прибрала на столе.
Щеки горели. Но на душе было спокойно и даже как-то уютно. Вероятно, школьник, которому долго грозили наказанием и в конце концов выпороли, – так себя чувствует.
Смела со скатерти крошки, унесла грязную тарелку, подправила фасон пасхи – будто она просто маленькая, а не то что кусок (здоровенный!) уже съеден. Пригладила волосы и постучала к Андрееву.
Он тотчас откликнулся и вошел, надутый, обиженный, не знающий, как себя держать.
Она усадила его за стол и, сделав фатальное выражение лица (брови подняты, глаза опущены, губы сжаты), до утра рассказывала ему про мужа, как этот безумец рыдал, умолял ее простить и вернуться, соблазнял ее своим великолепным положением и крупным заработком:
– Пятьдесят франков в день гарантированных.
Но она отвергла его. И если он застрелится, то:
– Верь мне, – ни одна фибра моего лица не дрыгнет.
И Андреев смотрел на фибры ее лица, с которых слезла пудра, и думал:
«Это фатальная женщина. Нужно от нее подальше».
И какие только в нашей женской судьбе бывают странности и даже несправедливости. Так, можно сказать, что, например, в животном царстве вы никогда ничего подобного не увидите.
Ну вот, например, история с Бертой Карловной. Ну, где вы что подобное, если рассуждать правильно, могли бы встретить? Ведь это прямо если нарочно стараться, так и то не выдумаешь.
Я ведь все это знаю, все на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали. Я, тетенька и она. Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться.
Тетенька скорее всех нашла занятие – в одной тентюр-люрли[16] на чулках подымать петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что, если большая тентюрлюрли, так можно шутя двадцать франков в день заработать. Половину, конечно, придется отдать самой тентюрлюрлирше, а десять франков это уж обеспечено.
Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой девушке в тридцать лет замариноваться на чужих петлях.
Кругом столица мира, а ты сиди, как лошадь, в тентюрлюрли с утра до ночи.
Повидали мы кое-кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже устроились. Так они прямо руками на нас замахали.
– Разве, – говорят, – это карьера для современной девицы? Теперь, – говорят, – одна карьера только и есть на свете.
– Какая же, – спрашиваем, – карьера?
– Холливуд.
– Чего такого?
А они опять:
– Холливуд.
Мы думали, что это, может быть, какой-нибудь мужчина. Ну, однако, парижанки все нам объяснили.
Прежде всего – брови долой. Лоб чтобы был голый, а там рисуй на нем, что хочешь. Волосы надо выбелить, лицо, конечно, выкрасить. А потом, если повезет, можно устроиться в Холливуд.
Но тут выяснилось, что бывает в Париже женская судьба и без Холливуда, что богатые англичане, когда достигнут почтенного возраста, очень начинают любить русскую душу. И если русская душа к лицу принаряжена, и подмазана, и подщипана, то судьба ее устраивается не только прочно, но даже и законно.
Наслушалась я этих наставлений, да и говорю моей Берте Карловне:
– Ты, милая моя, как хочешь, а я буду метить на Холливуд. Там можно легко миллион в день заработать.
А Берта уперлась.
Между прочим, рожа она, короче говоря, ужасная. Росту большого, спина круглая, что называется – котом, лопатки торчат, ручищи что грабли, лицо длинное и под носом усы. Даже не похожа на немку, бровастая какая-то. Думаю, между прочим, что, если ее забелить да ощипать, так она, пожалуй, еще страшнее стала бы. На Холливуд ей, значит, дороги нет. На англичанина тоже вряд ли пути ей открыты, потому что душа у нее нерусская. Хоть и родилась она в России, а говорит как-то неладно. К каждому слову все что-то «всяко ж» да «всяко ж». Будто и не по-русски.
Заложила я теплое пальто и мамочкино колечко, пошла в парикмахерскую, разделала себя под Холливуд. С непривычки как будто и некрасиво. Волосы белые, морда от них сизая, вместо бровей опухоли. Но, действительно, вид стал модный, а это, говорят, самое главное.
Ну, стали мы с подружкой, с Берточкой, хлопотать о месте. Я сначала решила было не торопиться. Если пригласят в Холливуд, так не стоит поступать на службу, а потом живо бросить. Только нервам трепка.
Посидела недельки две, да вижу – дело идет туго. Никто даже и не интересуется, что у меня брови щипанные. А ведь я, не пито – не едено, отвалила парикмахеру за весь этот Холливуд сорок шесть франков, да два на чай.
Между тем, Берта Карловна нашла себе место. Кассиршей в конфетном магазине. Очень была довольна, только жаловалась, что от двери дует, за три недели два флюса натянуло.
Очень мне обидно было, что я такая, милочка и модница, сижу без ангажемента, а усатая Берта так хорошо устроилась.
И вот как-то она вдруг и предлагает мне:
– Хочешь, я попробую тебя продавщицей устроить.
Очень меня это укололо.
– Не к такой карьере я себя готовила. Я молода и хороша, и чего же мне всю жизнь на чужие рты конфеты заворачивать.
А Берта отвечает:
– Никто не знает своей судьбы. Вот была здесь в одном курорте продавщица, тоже в конфетном магазине, и зашел в тот магазин индейский король. Как ее увидал, так сразу на полтора миллиона конфет купил и бух на колени: «Будьте, кричит, моей женой, иначе мне не жить и вам не жить, один конец». Хозяева перепугались, послали за переводчиком, тот все точно изложил, а на другой день и свадьбу сыграли.
– Всяко ж, – говорит Берта, – в конфетный магазин масса всяких королей ходит. Может быть, какой-нибудь и тобой заинтересуется.
Ну, думаю, короче говоря, почему бы мне и не начать с конфетной торговли? С чего-нибудь да надо же начинать.
В этом деле как раз мне и повезло. Понадобилась еще продавщица, Берта Карловна попросила, меня и взяли.
Кроме меня, было там еще две. И обе на меня похожи. Тоже мазаные, щипаные, волосы белые, щеки от них сизые. Ну прямо как сестрицы. Очень миленькие – совсем Холливуд. А Берта наша огромная, костистая, бровастая, стоит, машинкой гремит, и на щеке флюс. Ужасно неинтересная. Ну, прямо не женщина, а тетка. Даже к конфетному делу не подходит. Около конфет нужна улыбочка, вертлявость, душок приятный, фиалковый одеколончик. Ну, да Бог с ней, думаю, каждому человеку жить надо.
Вот приходит к нам как-то седой господин, очень интересный, в новых перчатках. Мне одна из наших, из мармазелей, шепчет: «На своем ото[17] приехал». Я как раз ему конфеты накладывала. Ну, конечно, улыбаюсь, пальчики петушиным гребешком складываю, все так изящно, что прямо хоть на музыку перекладывай. Купил фунт шоколаду фондан и полфунта крокан. Очень, короче говоря, сдержанный тип. Потом пошел к кассе и что-то очень внимательно нашу Берту рассматривал. Сам деньги складывает, а сам на нее смотрит, да так, что даже бумажки мимо кошелька тычет.
Ушел, а мы, мармазели, стали промеж себя толковать, что нехорошо такую кассиршу держать. Ну прямо пугало, и щека подвязана. Ну, однако, не наше дело, а тем более не мое. Она мне друг и меня на место устроила.
Недельки через две является наш сдержанный тип снова. Купил фунт трюф-о-шоколя и опять на нас никакого внимания. А как подошел к кассе, снова на Берту уставился, да вдруг и говорит:
– А у вас опять флюс? Это вам, верно, от двери дует?
Берта плечами пожала.
– Да, – отвечает, – дует, а что же я могу?
Он покачал головой и ушел.
Ну, думаем, прогонят нашу Берту. Вон уж покупатели замечают, что она с неподходящим флюсом.
Через несколько дней заходит этот самый господин опять. Покупает фунт фондан, идет платить и спрашивает у Берты:
– Это у вас новый флюс или все еще тот же?
Не знаю, что она ответила, только он вдруг нагнулся к ней, взял ее за руку и говорит:
– Вам следует найти себе такое место, где на вас не будет дуть.
И прибавил:
– Подумайте хорошенько над моими словами.
С этим и ушел, сел в свой автомобиль и покатил.
Мы все ужасно удивились, что это может значить? «Следует найти другое место». Может быть, это в том смысле, чтобы она убиралась отсюда вон.
Так мы ничего и не поняли, а Берта весь вечер плакала.
И что же бы вы думали? На другой день является наш господин снова. Ничего не покупает, идет прямо к кассе и что-то шепотом спрашивает. Берта краснеет как рак и начинает махать руками во все стороны. Потом кричит «да!» и начинает хохотать и плакать, как корова.
А он спокойно вынимает из кармана футляр, открывает, достает кольцо с камнем, ловит ее руку, надевает ей кольцо и очень элегантно говорит нам:
– Позвольте вам представить мармазель… как ваше имя?