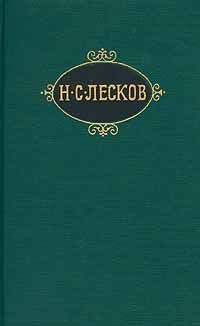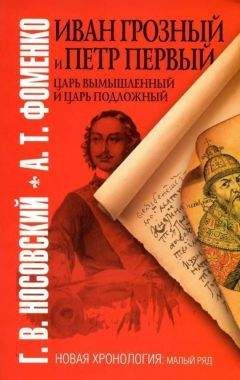– Всему и всякой вещи есть свое время под солнцем, – сказала она, – благочестиво должно жить во всякой поре, но в молодом веке человеку не все понятно, что искушенная жизнью опытность знает, а потому с этими вещами надо осторожно, да не горшее что прилучится от неразумия.
По этому поводу произошел разговор, после которого Хотетова стала повсюду порицать бабушку за неверие. Предоставляю всякому судить, сколько справедливого заключало в себе это порицание, но оно было отнюдь не несправедливее других порицаний, которым бабушка подверглась со стороны своих религиозных воззрений: ее знакомые вольтерьянцы называли ее «попадьей» и «московскою просвирней», а ханжи с ужасом шептали, что даже сомнительно: «верит ли она в бога».
И среди таких-то толков о самой княгине возникал вопрос: каково с нею жить ее бедной дочери, молодой девушке, еще почти ребенку, воспитанному совсем в иных понятиях?
Более всего этим занималась Хотетова: ее это ближе всех касалось как родственницы и как истинной христианки; она беспрестанно твердила:
– Я ничего не могу представить ужаснее положения ребенка, которого прямо из приюта, полного страха божия, отдают ужасным матерям вроде княгини Варвары Никаноровны, у которой ни бога, ни религии и никаких правил… Я не знаю, как правительство на все это смотрит, а по-моему, я бы не отпустила дочь жить с княгинею Протозановою.
Против этого никто не возражал.
На княжну Анастасию начали смотреть с сожалением и выражать ей нежнейшую участливость, которая должна бы казаться ей обидною, если б она понимала ее смысл и значение.
Княжне старались внушить, что она несчастна, и княжна, наконец, это поняла; но она никому не жаловалась на мать: она только нежилась, когда о ней соболезновали.
Бабушка, при всей своей проницательности, этого не замечала: она была так честна, что не могла подумать, чтобы кому-нибудь могла прийти в голову сатанинская мысль вооружать дитя против матери. И из-за чего и для чего все это делалось? Кажется, единственно из-за того, что в нашем обществе всем тяжело переносить присутствие лица с умом ясным и с характером твердым и открытым.
Между тем громадная разница в воспитании и взглядах матери и дочери сказывалась на каждом шагу: княжна, по самой молодости своих лет, оставалась совершенно безучастною ко всему, что занимало ее мать, и вовсе ее не понимала. Даже более: поскольку княжна сознавала разницу между своею матерью и матерями других своих сверстниц и подруг, то все эти сравнения выходили не в пользу княгини. До строгости чинный дом бабушки, ее всегда умная и обстоятельная речь, ее всегдашняя требовательность от человека ответственности за все слова и поступки и готовность к ответу за всякое свое действие делали общество матери для княжны тяжелым и скучным.
Начав замечать, что точно так же всем этим тяготятся и другие, молоденькая княжна мало-помалу утверждалась в мысли, что она права, потому что ее мнение о матери находится в согласии со всеобщим мнением о княгине.
В свете, однако, знакомством бабушки дорожили: известно, что свет в этом отношении похож на суетную женщину, которую чем меньше любят, тем легче ей нравятся. В свете знали, что княгиня ни у кого ничего не искала, и потому там ее искали и собирались есть за ее столами и потом сплетничать о ней, как о чудаке, о женщине резкой, беспокойной и, пожалуй, даже немножко опасной. Несправедливо было бы сказать, что все эти толки не имели никакого основания: княгиня в Петербурге была все та же – она продолжала и здесь иметь свои мнения, далеко не согласные с мнениями большинства, не по одним вопросам религиозного свойства. Бабушка, как я сказала еще в самом начале моей хроники, очень уважала свободу суждений, ибо находила, что «в затиши деревья слабокоренны».
– Нельзя-де, чтобы всем один порядок нравился: через многие умы свет идет, – говорила она.
Но, любя во всем основательность, княгиня не уважала мечтательных утопий и не могла оставлять без возражений легкомысленности, с какою многие тогда судили об устройстве общества под влиянием взглядов, вычитанных из нескольких иностранных книжек. Она, когда доводилось, слушала их, но неохотно, и обыкновенно спешила ставить вопрос на практическую почву.
– Что-де вы под сим заглавием прописать желаете? сладкого медку на остром ноже, либо еще что особое?
И когда ей разъясняли идеи политических комбинаций, она качала головою и отвечала, что, по ее мысли, все это «на кота широко, а на собаку узко».
– Мой згад, – говорила она, – нам прежде всего надо себя поочистить, умы просветить знанием, а сердца смягчать милосердием: надо народ освободить от ран и поношения; иначе он будет не с вами, а вы без него все, что трости ветром колеблемые, к земле падете.
И широкие планы народников она тоже не ласкала.
– Всё не то, всё не то, – говорила она, – не маните добрый народ медом на остром ноже, – ему комплименты лишнее. Проще всё надо: дайте ему наесться, в бане попариться да не голому на мороз выйти. О костях да о коже его позаботитесь, а тогда он сам за ум возьмется.
Такие речи княгини, разумеется, не нравились тогдашним либералам; но не более имела она согласия и с тогдашними консерваторами: в этих кружках тогда было большое кичение дворянскими заслугами отечеству во время Наполеонова нашествия. Бабушка же находила, что дворянам этим никак не пристало кичиться.
– Свое-де дело сделали, и больше ничего; тогда ведь все жертвовали – одни купцы наживались, а мужики больше всех пострадали.
Многих тогда щекотало чрезмерное увеличение дворянства, которое легко приобреталося самыми небольшими чинами.
– Разночинец в гору лезет, – говорили старые дворяне, указывая на некоторых людей нового дворянства, приобревших в это время силу и значение.
– Что же делать, – отвечала княгиня, – в этом вы сами виноваты: плохо учите своих детей. Хорошенько учите, чтоб они не родом славились, а сами род прославляли, так разночинец вас не одолеет, а не то одолеет.
И при этом, зная, что у всех, таким образом рассуждавших, на уме был павший Сперанский, смело добавляла:
– А ведь и разночинцы не все плохи: я, например, Михайле Михайловичу Сперанскому, хоть он из семинаристов и теперь не в милости, кланяюсь, потому что он того достоин.
У Сперанского тогда было много врагов, и упоминание его имени с таким почтением не только не могло быть приятно, но было и не безвредно для того, кто его так поминал; но для бабушки это было все равно: она привыкла к независимости своего положения и своих суждений. Уважая род как преемство известных добрых преданий, которые, по ее мнению, должны были служить для потомков побуждением беречь и по мере сил увеличивать добрую славу предков, княгиня отнюдь не была почитательницею породы и даже довольно вульгарно выражалась, что «плохого князя и телята лижут; горе тому, у кого имя важнее дел его».
В некоторых тогдашних спесивых кружках были возмущены неровным браком графа Николая Петровича Шереметева и весьма часто позволяли себе злословить графиню Прасковью Ивановну, которую бабушка знала с отличной стороны и любила со всею горячностию своей благородной натуры.
Дело заключалось в том, что граф Николай Петрович Шереметев в 1801 году женился на своей крепостной девушке Прасковье Ивановне Кузнецовой, прозвище которой переделали в «Ковалевскую» и говорили, будто она происходила из польской шляхты и была записана в крепость Шереметевых незаконно. К этому обстоятельству от нечего делать не переставали возвращаться при каждом удобном случае и достойную уважения графиню в глаза чествовали, а за глаза звали «Парашкою».
Бабушка этого решительно не могла переносить.
– Да, – говорила она, – что графиня Прасковья Ивановна польская шляхтянка и незаконно будто была в крепость Шереметевых записана, это неправда. Это вот с женою Доримедонта Рогожина так было, а Прасковья Ивановна была настоящая крестьянка, и про нее и песенка сложена: «Вечор поздно из лесочка я коров домой гнала», а что графиня Прасковья, помимо своей неоцененной красоты, умна, добра и благородна душою, а через то всякого уважения достойна – это правда. По ее мысли графом странноприимный дом в Москве выстроился и добра людям много делается. Это, воля ваша, лучше, чем породой кичиться, да joli-мордиться и все время с визитами ездить… Нет, дай бог нам побольше женщин с таким сердцем, как Прасковья Ивановна, «из лесочка».
Княгиня умела держаться скромно и благородно даже по отношению к падшим врагам своего рода: в то же самое время, когда в Петербурге злословили графиню Прасковью Ивановну Шереметеву, бывший французский посланник при русском дворе, граф Нельи, описал за границею князя Платона Зубова, к которому свекор княгини, князь Яков Протозанов, «в дом не ездил, а кланялся только для courtoisie[9]». Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что «он богат как Крез, а надменен как индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол его, да Салтыкова с Браницким, обходился казне в день четыреста рублей», что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная.