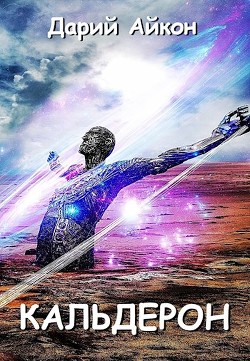летнем лагере.
Она вдруг перегнулась через стол, рукав взметнулся, словно крыло, и она схватила меня за руку. Меня поразила сила ее пальцев. Она не была бойцом, но не из-за слабости.
— А мы знаем про цыган, юная леди, и про то, что вы не так невинны, как кажется. Но твой отец решил поверить, что ты ходила туда только из-за сестры.
Она отпустила меня, положила руки на колени и принялась хмуро и сосредоточенно на меня смотреть.
— Больше ты никаких бед не натворишь. Это достаточно ясно? Я ожидаю от тебя безупречного поведения. Если отец говорит, что твоя сестра в летнем лагере, ты не будешь задавать ему вопросов. И мне тоже.
Блюдечко звякнуло, когда мама поднесла чашку к губам. Сделав глоток, она взяла серебряные щипчики и бросила мне в чашку три куска сахара.
— Ты ведь так любишь? — примирительно спросила она. — Или попросим Вельму приготовить тебе чай, раз отца нет, и никто возражать не станет.
Весь день я пролежала на кровати с книгами сказок Эндрю Лэнга. Пропажа Луэллы будто выжала меня досуха. Меня мучила тревога, что в конце концов привело к приступу, во время которого мне казалось, что я уплываю из тела. Когда наступил вечер, я спустилась и поела в молчании, давясь бесцветной рыбой и морковью с маслом. Мама казалась постаревшей, измученной и такой же несчастной, как я, папа не пришел к ужину, а Вельма подавала на стол в угрюмом молчании.
Утром я осталась в постели, но никто за мной не пришел. Жара спала, в окно задувал прохладный ветерок. Небо стало ярко-голубым. Когда я наконец спустилась в той же одежде, в которой спала, я никого не обнаружила. Где папа? А мама? Она тоже ушла? Я побежала в их комнату, представляя, что моя семья собрала вещи и уехала и теперь я увижу там пустые комоды и шкафы. Я распахнула дверь с такой силой, что она ударилась о стену.
— Господи! — Мама оторвала взгляд от листа бумаги. — Что случилось, ради всего святого?!
— Я думала, что ты пропала. — Чувствовала я себя глупо, но мне стало легче.
— Не дури. — Она надела на перо колпачок.
Широкие рукава взметнулись, когда мама повернулась на стуле. Края кимоно разошлись, демонстрируя гладкую кожу повыше ночной рубашки. Перчаток она не надела, и шрамы на руках выступали, как белые вены. Когда она подошла и взяла мое лицо в ладони, я не почувствовала никакого спокойствия от близости этих неровных рубцов. Прикосновение показалось мне неприятным. Я видела, как она горит, как пламя пожирает ее халат, а потом и ее саму.
Она отстранилась со словами:
— Садись. Я должна кое-что у тебя спросить.
Я села на краешек кушетки, обитой желтой тафтой. Мама зажгла сигарету. Это что, войдет у нее в привычку? Я не могла понять, курила ли она и раньше, скрывая это, или начала после пропажи Луэллы? Глаза у нее были настороженные, улыбающиеся губы дрожали.
— Расскажи мне о цыганах.
У меня в желудке все застыло. Если я ей расскажу, наша с Луэллой тайна станет свидетельством преступления и вся ее сакральность рухнет. Наши чары испарятся.
— Прошу прощения за вчерашний день. Я не стану на тебя злиться, обещаю. — Голос мамы смягчился, когда она затянулась и запахнула полу кимоно. — Я уверена, что твой отец прав и что Луэлла тебя заставила. На тебя такое поведение не похоже.
— Почему бы не спросить у нее?
Мама вздохнула, прижала палец колбу.
— Сейчас она с нами не разговаривает. — Она уронила руку. — Сколько времени вы туда ходили? С тех пор, как Луэлла первый раз о них спросила? Когда я запретила вам это делать? Если мне не изменяет память, я была достаточно великодушна, чтобы пообещать сводить вас на ярмарку? — Она распахнула окно и выдохнула дым на улицу. — Что Луэлла там делала?
— Танцевала, — ответила я, зная, что причиню ей боль.
— Танцевала? И какие же танцы?
— Не знаю… цыганские.
Она скривилась с отвращением:
— А еще?
— Пела.
— Пела и танцевала? — Мама передернула плечами, затушила сигарету и сбросила кимоно. Ее движения стали мелкими, дергаными. Она стянула ночную рубашку, и та бесформенной кучей опала на пол. Волны белого крепа походили на глазурь, сползшую с пирога.
Мне странно было видеть ее обнаженной — бледная ложбинка на спине, несильно выступающие ягодицы. Кажется, раньше такого не случалось. Она открыла гардероб, швырнула на кровать платье, вытащила сорочку и надела ее через голову. Перекинула волосы через одно плечо, заплела их в толстую косу.
— Что она находила в этом? Чем ее привлекала их порочная и грязная жизнь?
Я пожала плечами. К глазам подступали слезы:
— Не знаю.
Луэлла ответила бы маме. Может, так она и сделала. Может, она кричала и плевалась, когда ее уводили.
— Что ты там делала? — Мама обхватила себя руками, будто готовясь услышать худшее.
— Смотрела и писала. — Я не собиралась раскрывать ей подробности, чтобы она не растоптала, как свой окурок, наши самые драгоценные мгновения.
Мама сняла с крюка корсет:
— Помоги мне с этим.
Она со свистом вдохнула сквозь зубы, втянула живот, прижала руки к бедрам, чтобы я смогла застегнуть крошечные механические застежки. Когда она повернулась ко мне, на ее лице уже не было злости, как будто корсет всю ее выжал. Брови расправились, уголки губ опустились, лицо стало печальным.
— Когда вы были маленькими, я беспокоилась, что Луэлла слишком уж сильно привязана к тебе. Она таскала тебя повсюду, бежала к тебе, если ты плакала, и говорила мне, если ты хотела есть. Но потом оказалось, что это ты слишком к ней привязана. — Она тяжело вздохнула. — Жаль, что ты пошла за ней в цыганский табор, но я знаю, что ничего подобного не повторится. Просто не уходи и не