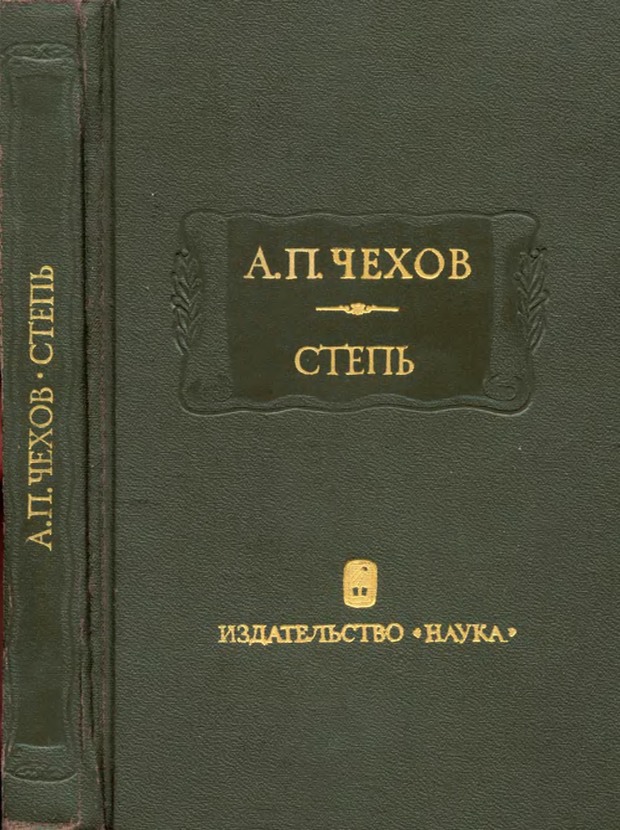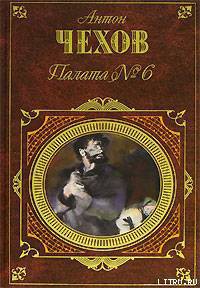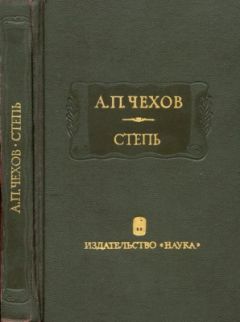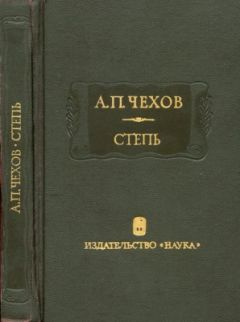как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всём теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с рёвом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!
Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив…
Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.
— Захворал наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил… парнишка-то… На чужой стороне… Плохо дело!
VIII
Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:
— А мы ещё вчера вечером приехали… Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!
Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.
— Дяденька и отец Христофор теперь в номере, — продолжал Дениска, — чай пьют. Пойдём!
И он повёл Егорушку к большому двухэтажному корпусу, тёмному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, тёмную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором, действительно, за чайным столом сидели Иван Иваныч и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.
— А-а, Егор Никола-аич! — пропел отец Христофор. — Господин Ломоносов!
— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов. — Милости просим.
Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол.
— Ну, как доехал, puer bone? [20] — засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. — Небось надоело? И не дай Бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости Господи, взглянешь вперёд, а степь всё такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьёшь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Славу Богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай Бог всякому… Хорошо попользовались.
При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошёл к дивану и лёг.
— Вот-те на! — удивился отец Христофор. — А как же чай?
Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.
— Вот-те на! — повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?
— Я… я болен! — проговорил Егорушка.
— Болен? — смутился отец Христофор. — Вот это уж и нехорошо, брат… Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат… а?
Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щёку и сказал:
— Да, голова горячая… Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал… Ты Бога призывай.
— Хинины ему дать… — сказал смущённо Иван Иваныч.
— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать… Георгий, хочешь супчику? А?
— Не… не хочу… — ответил Егорушка.
— Тебя знобит, что ли?
— Прежде знобило, а теперь… теперь жар. У меня… всё тело болит…
Иван Иваныч подошёл к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущённо крякнул и вернулся к столу.
— Вот что, ты раздевайся и ложись спать, — сказал отец Христофор, — тебе выспаться надо.
Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальтом Ивана Иваныча, затем отошёл на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.
— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.
— Бредит… — проговорил вполголоса отец Христофор.
— Хлопоты! — вздохнул Иван Иваныч.
— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.
Чтобы отвязаться от тяжёлых грёз, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чём-то говорили шёпотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберёт всю свою большую семью, лукаво подмигнёт и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.
— Эх, кабы знатьё, что Черепахин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех трёхсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?
Человек в белой рубахе убрал самовар и зажёг в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол, — вышел и, вернувшись немного погодя,