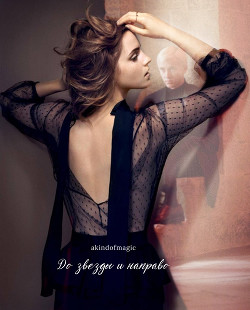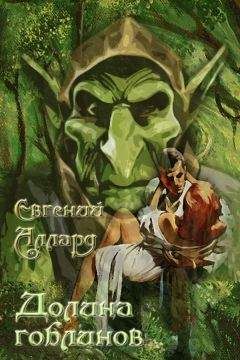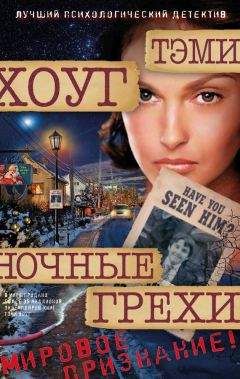выбегу к ней; она заберет меня с собой, и мы уйдем не оглядываясь. Этого, однако, не произошло.
Я много думала об этом, лежа в темноте своей комнаты, после того как в Девятом корпусе запирали двери и гасили свет, – о том, что на самом деле означало мамино невозвращение. Боялась ли она отца Джона, опасалась, что он может навредить ей – или мне? Либо же – и это гораздо, гораздо больнее – она просто никогда меня не любила и мои страхи, самые черные из них, терзавшие меня в моменты самой отвратительной слабости, вполне реальны?
И, что едва ли не хуже всего, мне совершенно не с кем было поговорить о маме, не у кого спросить о ней, ведь даже самые близкие мои Братья и Сестры тут же сдали бы меня с потрохами – без удовольствия, но и без колебаний.
А теперь? Теперь мне есть с кем поговорить, однако я все еще не решила, можно ли доверять доктору Эрнандесу. Допускаю, что он не врет и действительно не знает, где сейчас моя мама и жива ли вообще. Допускаю, что он вправду обращался с расспросами к коллегам и если бы получил информацию, то поделился бы ею со мной, как обещал. Или…
Возможно, он знает, где она, но скрывает это от меня в расчете, что я буду более сговорчива до тех пор, пока мне что-то нужно. Возможно, она мертва, и он знает об этом, но не хочет расстраивать меня из-за моего «нестабильного состояния». Возможно.
К глазам подступают слезы, а из коридора доносятся шаги, которые замирают у моей двери. Я не хочу, чтобы сестра Харроу застала меня плачущей, когда принесет ланч, поэтому вытираю глаза, но слезы продолжают капать, как будто внутри что-то прохудилось, и эту течь не остановить.
А причина – в единственной мысли, заполнившей мое сознание в тот момент, когда я спускаю ноги с кровати; мысли одновременно глубокой и совершенно очевидной, хоть я и редко была готова ее признать. Я скучаю по маме. Я очень, очень по ней скучаю.
Через два часа я вхожу в кабинет групповой терапии и сразу, еще не закрыв за собой дверь, начинаю искать глазами Люка. Какая-то часть моего разума – та, под влиянием которой в последние месяцы перед пожаром я ходила с оглядкой, – убеждена, что Люк сейчас выскочит из-за угла и набросится на меня. Глупость, конечно, – я ведь верю, что доктор Эрнандес и его коллеги-наблюдатели не позволят Люку мне навредить, хоть вера эта и зыбка, – однако полностью прогнать опасение не выходит. Я быстро смотрю по сторонам – налево, направо, как ребенок у края проезжей части, – и, не обнаружив Люка, немного расслабляюсь.
– Привет, Мунбим, – говорит мне Рейнбоу. Скрестив ноги, она сидит на полу посередине комнаты рядом с Люси и Уинтер, и все трое что-то усердно выводят толстыми карандашами на большом листе бумаги. Понятия не имею, что они задумали нарисовать – с того места, где я стою, мне чудится какой-то огромный сатанинский осьминог, – но я рада, что они вместе, хотя при виде кровоподтеков на лице Люси у меня сжимается сердце.
– Привет, Рейнбоу, – здороваюсь я. – Привет всем.
Почти все Братья и Сестры оборачиваются в мою сторону: одни улыбаются, другие приветливо кивают, некоторые делают и то и другое. Я широко улыбаюсь в ответ, а параллельно продолжаю выискивать взглядом Люка. Уже начинаю думать, что его здесь нет, но потом Джеремайя вскакивает с пола и бежит через всю комнату с бумажным самолетиком в руке, громко имитируя звук мотора, и тогда я наконец замечаю.
Люк сидит на полу в дальнем углу, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Я холодею, вообразив, что он уставился прямо на меня, но, присмотревшись, понимаю, что его взгляд расфокусирован. Глаза Люка пустые и потухшие, как будто он несколько суток не спал.
– Он так сидит с тех пор, как я пришла.
Поворачиваю голову: позади меня стоит Хани, ее взгляд прикован к Люку.
– Он что-нибудь говорил?
Хани качает головой.
– Ни слова.
Я морщусь. Комнату наполняют смех и звонкий щебет детских голосов: Аврора гоняется за Джеремайей с чем-то похожим на пластилиновую змею, а Сансет и Вайолет, сидя за столом, распевают песню, которая кажется мне знакомой, только вот я никак не могу ее припомнить. Затем девчушки умолкают, и Сансет что-то деловито записывает на листке бумаги. До меня доходит, что песня их собственного сочинения и они еще в процессе творчества.
Никто не обращает внимания на Люка, и это вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я довольна, что малыши заняты своими обычными делами – играют, поют и ведут себя как нормальные дети, а с другой стороны, меня тревожит, что все они упорно игнорируют страдания хорошо знакомого, близкого человека.
Они просто дети, шепчет внутренний голос. Они еще не отличают серьезных вещей от пустяков. Радуйся, что с ними все хорошо.
– Ты как? – спрашивает Хани, словно прочитав мои мысли.
– В порядке, – отвечаю я. – А что?
– Ты что, плакала?
Мне удалось унять поток слез примерно за четверть часа до того, как сестра Харроу пришла отвести меня на сеанс КСВ, но глаза никуда не денешь – они красные, опухшие и сухие, как земля в пустыне.
– Я в порядке, – говорю я снова.
Хани кивает и вроде бы хочет что-то добавить, но сдерживается. Я указываю подбородком на Люка:
– Пойду поговорю с ним.
– Зачем? – хмурит лоб Хани.
– Кто-то же должен.
– «Кто-то» и так с ним разговаривает. Ежедневно, в десять утра, так же, как со мной, с тобой и со всеми остальными. Он не твоя забота.
Я собираюсь сказать Хани, что она не права, потому что Люк очутился здесь из-за меня – вообще все здесь только из-за меня, – но не могу. Я никому не могу в этом признаться.
– Я все равно попробую, – говорю я.
– Как знаешь, – пожимает плечами Хани.
Я киваю, но еще какое-то время стою на месте. Я не хочу общаться с Люком; по правде говоря, это последнее, чего бы мне хотелось. И все же я не могу бездействовать, не могу просто оставить его сидеть в углу и смотреть в пустоту.
Делаю глубокий вдох и заставляю себя медленно подойти к нему. Если Люк и замечает меня, то ничем этого не выдает. Неподвижно и его лицо – ни один мускул не дрогнул, – и даже глаза. Не переставая внимательно следить за ним, я прислоняюсь спиной к стене