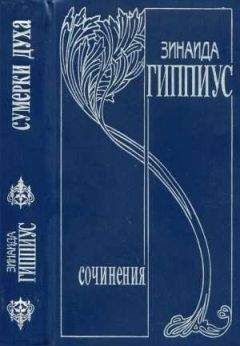Тина знала это, и потому целый день сердилась. У Вари тоже вытянулось личико. Визиты к бабушке были наказанием для обеих. Они старались всячески избегать этого, но папаша сердился и непременно приказывал навещать бабушку хоть раз в месяц.
Дочерям Евстафий Петрович не позволял порывать кровных связей, но сам никогда не бывал у Марины Аркадьевны. Между нею и зятем, со всей его родней, велась непримиримая тридцатилетняя война.
Девочки росли у отца, окруженные его родными, не помнили матери и боялись важной бабушки, которую папаша так не любил.
Бабушка с своей стороны не теряла случая бранить при детях их дядей и теток, но внучки относились к ней недоверчиво.
Жила бабушка далеко, в Николо-Болванском переулке, в маленькой квартирке с низкими потолками. В передней нельзя было раздеваться, потому что она не топилась, и Варя с Алевтиной прошли через узкий, темный коридор прямо в бабушкину спальню. Это была единственная жилая комната во всей квартире. В низкую залу с белыми занавесками и картонным плюшем на жардиньерке бабушка редко заходила даже летом и гостей не звала туда.
Марина Аркадьевна была прежде богата, воспитывалась на французком языке и чувствительных романсах старых годов. Теперь у ней в киоте горела неугасимая лампада, она любила вспоминать молодость, часто плакала, хранила свой альбом со стихами, но никогда не могла удержаться, чтоб не выбранить при случае Евстафия Петровича и часто посылала свою горничную узнавать, что делается и что слышно у зятя.
– Вот они, вот мои милые, сиротки мои! – воскликнула она и обняла сначала Варю, а потом Алевтину, которую ради поэзии всегда называла Леонидой.
Обнимать она умела особенно: поцелует – да оттолкнет от себя, держит за плечи и смотрит так, точно наглядеться не может, потом опять поцелует – и опять оттолкнет.
– Чего хотите, детки? Чаю? Сейчас, сейчас… Аринушка! Самовар, скорее!
Арина была такая же старая, как все у бабушки в доме. Только бабушка вся высохла, съежилась, надевала черные наколки и пышные капоты, а горничная к старости располнела, ходила тихо и степенно. Стол у бабушки был старый, занавески старые, ковер ветхий; когда подали самовар, из-под кровати выползла длинная и белая собака с опущенным хвостом и тихо приблизилась к Марине Аркадьевне. Собака была глухая и почти слепая; даже бабушка ее разлюбила, говоря, что Норка стала уж слишком стара.
– Кушайте же, милочки, кушайте!.. Да что вы такие печальные? Опять в Останкино на дачу? В прошлом-то году потолок протекал… Как еще не простудились, Бог спас… Что ж, это, конечно, расчет Евстафию Петровичу с тетенькой вместе жить, а ведь ваше дело – повиноваться, вы уж известно, голубки кроткие… Он – отец, да и опекун к тому, хотя, положим, и родительская власть не на всю жизнь… Тебе сколько минуло, Варичка?
– Мне уже двадцать три, милая бабушка; только, право, мы сами хотим в Останкино…
– Ну уж, знаю, знаю… А что эта фуфыра, Марья Петровна? Все еще сынка на заднем дворе держит? Королева! А Любка? Все толстеет да со студентами возится?
– Леонида! – обратилась она к Тине, сразу переменив тон. – Вот что я тебе скажу; я тоже не за горами живу, кое-что слышала. Единственное утешение мое, любимое дитя моей дочери – береги свое счастье! Не позволяй никому заглядывать в твою чистую душу. Ты любишь, ты любима – и да будет с тобою мое благословение. Приди сюда.
Алевтина подошла. Бабушка заплакала и снова стала ее обнимать. Варя смотрела равнодушно.
Когда сестры спустились с бабушкиной лестницы, Тина сказала:
– Варя!
– Что?
– И к чему мы притворяемся? Ведь мы же ее не любим? Варя изумленно посмотрела на сестру.
– Вон ты о чем! Это, верно, Новоселов тебе наговорил. А ты подумай: разве можно? Папаша рассердится, да и потом она же нам родная!
VII
– А что, неправду я вам говорила, что наша Алевтиночка умница, каких нынче мало? Серьезная, солидная… И сердце золотое… Вот уж можно сказать, осчастливит человека…
Новоселову наконец надоедали эти вечные восхваления Алевтины. Он отвечал Любе:
– Да, только она не так красива; вот Варвара Евстафи-евна – прехорошенькая!
Люба изумлялась.
– Значит, вам Варя нравится? Отчего же вы всегда с Алевтиной?
– Потому что с ней у нас больше есть о чем поговорить.
– Так которая же лучше, по-вашему?
– Да обе они хороши… Обе милые девицы… А теперь, Любовь Ильинична, я заниматься пойду… Завтра репетиция…
Люба была в недоумении. Наконец, решив дело по-своему отправлялась сначала к тете Маше, потом к Евстафию Петровичу и сообщала им по секрету, что «он» не прочь жениться на которой угодно, хотя в Алевтиночку, кажется, больше влюблен.
У Новоселова начались экзамены; он много работал и почти не выходил из дому.
Заниматься усидчиво и ровно он никогда не умел: но перед экзаменами, особенно теперь, мечтая непременно окончить университет и скорее уехать – он засел за книги серьезно. Его часто мучило неуменье работать терпеливо, систематически. Но он утешал себя, что это просто непривычка к труду. Наука его всегда привлекала; он еще не решил, что будет делать после магистрского экзамена, но знал твердо, что, окончив университет, поедет за границу. «Сначала учиться, – думал он, – да не так, как теперь, а по-настоящему, в этом пока и будет моя работа»…
Прежде, когда он был моложе, он всегда представлял себе вдали, за университетом, какое-то отвлеченное, но прекрасное «дело»; мечтал, как примется за него, как начнется настоящая, разумная жизнь, трудная, с «борьбой и лишениями», но все-таки счастливая и полезная; теперь, оканчивая последние экзамены, он видел, что «дела» такого нет, да если бы и было, то он не мог бы приняться за него, потому что ничего не знал и, главное, чувствовал, что ничего не знал.
Новоселов с детства был немного ленив, безхарактерен и редко кончал начатое дело, и он боялся одного, что у него не хватит воли и терпения учиться и работать столько, сколько он предполагал.
Но чаще он не пугал себя такими неприятными мыслями и, хотя не мог бы ясно и определенно ответить, что у него впереди такое светлое и хорошее – чувствовал себя детски счастливым. Встречаясь с людьми, он становился иногда печален; ему было жалко их. Жалко профессора, который и на будущий год станет читать те же лекции в той же самой аудитории, жалко сторожа, подметающего пол в коридоре, извозчика, обреченного вечно жить в Москве; жалко Любу, которая до старости доживет на Собачьей площадке со студентами и прилизанным мужем; но особенно жалко было Алевтину, потому что те уж все равно, безнадежны, а эта, думал он, живой человек…
VIII
Тетя Марья Петровна прислала мужа сказать Евстафию Петровичу, что она сейчас будет.
Послали за дядьями Андрей Лукичом и Модест Васильевичем, за Анной Ильиничной с мужем и за теткой Софьей Петровной.
Люба была здесь с утра и помогала барышням накрывать чай. Люба немного трусила, потому что играла в сегодняшнем событии немаловажную роль.
Первой приехала Марья Петровна в лиловой наколке и с лицом более строгим, чем всегда. За Марьей Петровной скоро явились и остальные. Сели за чай.
Говорили о том о сем. Варя рассказывала, что она вчера была у Леночки Преполовенской.
– И знаешь, тетя, – обратилась она к Марье Петровне, – Леночка ничуть не горюет, что свадьба расстроилась. Он, говорит, мне никогда не нравился. И как это вышло, ты слышала? Накануне девишника приезжает Семен Ильич, знаешь, брат самого Миролюбова, и говорит: что вы делаете? Ведь у жениха все дома, что на Кузнецком, в закладе, и выстроены-то в один кирпич, а внутри сор да труха… Я все узнал, говорит. Ну – они туда-сюда – правда оказалась. Так и разошлось.
Марья Петровна кивнула головой и ничего не ответила.
– А как, тетя, ленты дороги в Пассаже – ужас! – продолжала Варя; мне надо было узеньких, пунцовых, так мы с Катей везде ходили – меньше двадцати копеек нету; так и не купили. А уж я торговаться умею.
– Знаю, как умеешь, – сказал Модест Васильевич, высокий старик с длинным, сухим носом и седыми бакенбардами, – прошлый раз дрова-то почем купила, а?
– Что ж, по двенадцати с полтиной, да зато какие дрова!..
– Люба! – сказала вдруг Марья Петровна – и все замолчали. – Так ты что говоришь об этом деле? Он за Алевтину сватается?
Алевтина сидела молча.
– По-моему – он в Тину влюблен, – поспешно сказала Люба. – Да и все это видят. Он говорит, что «мне, говорит, с Алевтиной Евстафиевной много о чем потолковать надо».
– Ну и хорошее дело, – произнесла Марья Петровна. – Не знаю, как другие, – она поглядела на всех присутствующих поочередно, – а я бы благословила.
– Егор Васильевич узнавал – состояние есть от матери. Ты как думаешь, Евстафий?
– Я рад, я рад… Только если Тиночка… Как она хочет… Он нравится тебе, Тиночка?