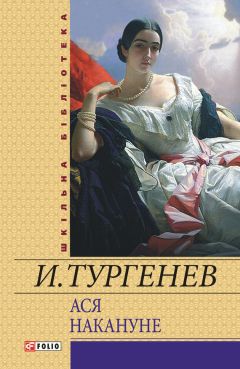– Что ж! – повторяла она, поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами. – Известно: мать твоя была голубка… голубка, как есть… И отец твой любил ее, как следует мужу, верно и честно, по самый гроб; и никакой другой женщины он не любил, – прибавила она, возвысив голос и сняв очки.
– А робкого она была нрава? – спросил, помолчав, Аратов.
– Известно, робкого. Как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись.
– А в ваше время смелых не было?
– Было и в наше… как не быть! Да ведь кто? Так, потаскушка какая-нибудь, бесстыжая. Зашлюндает подол – да и мечется зря… Ей что? Какая печаль? Подвернется дурачок – ей и на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал?
Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет. Платонида Ивановна посмотрела ему вслед, покачала головою и опять надела очки, опять взялась за шарф… но не раз задумывалась и роняла спицы на колени.
А Аратов до самой ночи, – нет, нет, да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о «цыганке», о назначенном свидании, на которое он наверное не пойдет! И ночью она его беспокоила. Ему все мерещились ее глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом, – и эти неподвижные черты с их властительным выражением…
На следующее утро он опять почему-то все ожидал Купфера; чуть-чуть было не написал ему письма… а впрочем, ничего не делал… все больше расхаживал по своему кабинету. Он ни на одно мгновенье не допускал в себе даже мысли, что пойдет на этот глупый «рандеву»… и в половине четвертого часа, после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинель и нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар.
VII
Аратов застал на нем немного прохожих. Погода стояла сырая и довольно холодная. Он старался не размышлять о том, что делал, заставлял себя обращать внимание на все попадавшиеся предметы и как бы уверял себя, что и он так же вышел погулять, как и те прохожие… Вчерашнее письмо находилось у него в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру, – и сердце его билось, билось… Он почувствовал усталость и присел на лавочку. И вдруг ему пришло в голову: «Ну, а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной?» По-настоящему, это для него должно было быть все едино… и, однакоже, он должен был самому себе признаться, что этого он не желал. «Уж очень было бы глупо, – подумалось ему, – еще глупей того!» Нервное беспокойство начинало овладевать им; он стал зябнуть – не извне, а изнутри. Он несколько раз вынул часы из кармана жилета, глядел на циферблат, клал их обратно и всякий раз забывал, сколько оставалось минут до пяти часов. Ему казалось, что все мимо идущие как-то особенно, с каким-то насмешливым удивлением и любопытством оглядывали его. Дрянная собачонка подбежала, понюхала его ноги и стала вертеть хвостом. Он сердито на нее замахнулся. Больше всех надоедал ему фабричный мальчик, в затрапезном халате, который уселся на скамье, по той стороне бульвара – и то посвистывая, то почесываясь и болтая ногами в громадных прорванных сапогах – то и дело посматривал на него. «Ведь вот, – думал Аратов, – хозяин наверное его ждет – а он тут, лентяй, баклуши бьет…»
Но в это самое мгновенье ему почудилось, что кто-то подошел и близко стал сзади его… чем-то теплым повеяло оттуда…
Он оглянулся… Она!
Он тотчас узнал ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ее черты. Он мгновенно вскочил со скамьи – да так и остался, и слова не мог промолвить. Она тоже молчала. Он чувствовал большое смущение… но и ее смущенье было не меньше: Аратов даже сквозь вуаль не мог не заметить, как мертвенно она побледнела. Однако она заговорила первая.
– Спасибо, – начала она прерывистым голосом, – спасибо, что пришли. Я не надеялась… – Она слегка отвернулась и пошла по бульвару. Аратов отправился вслед за нею.
– Вы, может быть, меня осудили, – продолжала она, не оборачивая головы. – Действительно, мой поступок очень странен… Но я много слышала о вас… да нет! Я… не по этой причине… Если б вы знали… Я так много хотела вам сказать, Боже мой!.. Но как это сделать… Как это сделать!
Аратов шел с ней рядом, немного позади. Он не видел ее лица; он видел только ее шляпу да часть вуали… да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее и на себя вдруг к нему вернулась; все смешное, все нелепое этого свиданья, этих объяснений между совершенно незнакомыми людьми, на публичном бульваре, предстало ему вдруг.
– Я явился на ваше приглашение, – начал он в свою очередь, – явился, милостивая государыня (ее плеча тихонько дрогнули – она свернула на боковую дорожку – он последовал за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому, который… который потому только и догадался, – как вы выразились в вашем письме – что писали ему именно вы… потому догадался, что вам, в течение того литературного утра, захотелось выказать ему слишком… слишком явное внимание!
Вся эта небольшая речь была произнесена Аратовым тем, хоть и звонким, но нетвердым голосом, каким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились… Он сердился; он гневался… Этот-то самый гнев и развязал его в обыкновенное время не очень свободный язык.
Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами… Аратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел одну эту старенькую мантилью да шляпку, тоже не совсем новую. Самолюбие его страдало при мысли, что вот теперь она должна думать: «Мне стоило только знак подать – и он тотчас прибежал!»
Аратов молчал… он ожидал, что она ему ответит; но она не произносила ни слова.
– Я готов выслушать вас, – начал он опять, – и очень даже буду рад, если могу быть вам чем-нибудь полезен… хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно… При моей уединенной жизни…
Но при последних его словах Клара внезапно к нему обернулась – и он увидал такое испуганное, такое глубоко опечаленное лицо, с такими светлыми большими слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ – и так было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто вроде испуга – и сожаления и умиления.
– Ах, зачем… зачем вы так… – промолвила она с неотразимо искренней и правдивой силой – и как трогательно зазвенел ее голос! – Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас… неужели вы ничего не поняли?.. Ах да! Вы не поняли ничего, вы не поняли, что я вам говорила, вы бог знает что вообразили обо мне, вы даже не подумали, чего мне это стоило – написать вам!.. Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое!.. Да разве я (она так сильно стиснула свои поднесенные к губам руки, что пальцы явственно хрустнули)… Точно я какие требования к вам предъявляла, точно нужны были сперва разъяснения… «Милостивая государыня…», «мне даже удивительно…», «я могу быть полезным…» Ах я, безумная! Я обманулась в вас, в вашем лице!.. Когда я увидала вас в первый раз… Вот… Вы стоите… И хоть бы слово! Так-таки ни слова?
Она умолкла… Лицо ее внезапно вспыхнуло – и так же внезапно приняло злое и дерзкое выражение.
– Господи! как это глупо! – воскликнула она вдруг с резким хохотом. – Как наше свидание глупо! Как я глупа!.. да и вы… Фуй!
Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги, и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла.
Это движение рукою, этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили Аратову его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда с слезами на глазах она к нему обратилась. Он опять рассердился – и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: «Из вас может выйти хорошая актриса – но зачем вы вздумали надо мной-то комедию ломать?»
Большими шагами вернулся он домой, – и хотя продолжал и досадовать и негодовать в течение всей дороги – однако в то же время сквозь все эти нехорошие, враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг… Он даже поставил себе вопрос: «Отчего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слово? Я не успел… – думал он… – Она мне не дала произнести это слово. И какое слово я бы произнес?»
Но он тотчас тряхнул головою и с укоризной промолвил: «Актерка!»
И опять-таки в то же время – самолюбие неопытного, нервического юноши, сперва оскорбленное, теперь как будто было польщено тем, что вот, однако, какую он внушил страсть…
«Но зато в эту минуту, – продолжал он свои размышления, – все это, разумеется, кончено… Я должен был показаться ей смешным…»